Персонажи пьес Шекспира
Эта статья может оказаться слишком длинной для удобного чтения и навигации . Когда этот тег был добавлен, его читаемый размер составлял 18 000 слов. ( апрель 2024 г. ) |
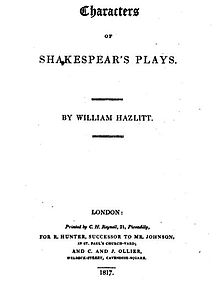 Титульный лист Персонажи пьес Шекспира, 1-е издание | |
| Автор | Уильям Хэзлитт |
|---|---|
| Язык | Английский |
| Жанр | Литературная критика |
| Издатель | Роуленд Хантер с Чарльзом и Джеймсом Оллиерами |
Дата публикации | 9 июля 1817 г. |
| Место публикации | Англия |
| Тип носителя | Распечатать |
| Предшественник | Круглый стол |
| С последующим | Вид на английскую сцену |
Персонажи пьес Шекспира — это книга критики пьес Шекспира , написанная английским эссеистом и литературным критиком начала XIX века Уильямом Хэзлиттом в 1817 году . Написанное в ответ на неоклассический подход к Сэмюэл пьесам Шекспира, типичным примером которого является Джонсон , оно было одним из первых англоязычных исследований пьес Шекспира, последовавших манере немецкого критика Августа Вильгельма Шлегеля , а также работы Сэмюэля Тейлора Кольриджа . проложило путь к более широкому признанию гения Шекспира, что было характерно для критики позднего девятнадцатого века. Это также была первая книга, охватывающая все пьесы Шекспира и предназначенная как руководство для широкого читателя.
Затем, став известным как театральный критик, Хэзлитт все больше внимания уделял драме как литературе, публикуя разную литературную критику в различных журналах, включая престижный Edinburgh Review . Это было первое его литературное исследование длиной в книгу. Пьесы, тридцать пять из которых Хэзлитт считал подлинными, состоят из тридцати двух глав, причем к отрывкам, переработанным из периодических статей и обзоров, добавляется новый материал. В предисловии раскрывается основная тема уникальности шекспировских персонажей и обращается к более ранней критике Шекспира. Завершают книгу две заключительные главы: «Сомнительные пьесы Шекспира» и «Стихи и сонеты».
В центре внимания по большей части персонажи, часто описываемые с личным уклоном и с использованием запоминающихся выражений («Это мы — Гамлет») и включающие психологические идеи, которые оказали большое влияние на более позднюю критику. Хотя поначалу комментарии Хэзлитта были менее влиятельными, комментарии Хэзлитта к драматической структуре и поэзии пьес, а также к центральным темам и общему настроению каждой пьесы заложили основу для более сложных интерпретаций более поздних критиков. Часто выражая мнение, что постановка не может отдать должное пьесам Шекспира, Хэзлитт, тем не менее, также находил некоторые пьесы в высшей степени играбельными, и он часто восхищался игрой некоторых актеров, особенно Эдмунда Кина .
Книга Хэзлитта , получившая сначала широкое признание (она оказала непосредственное и мощное влияние, в частности, на поэта Джона Китса ), а затем подвергшаяся жесткой критике, потеряла большую часть своего влияния при жизни автора, но в конце концов вновь вошла в мейнстрим шекспировской критики. девятнадцатый век. Первое издание было быстро распродано; Продажи второго, в середине 1818 года, поначалу были оживленными, но полностью прекратились из-за резко антагонистических, лично направленных и политически мотивированных обзоров в литературных журналах тори того времени. Хотя некоторый интерес продолжал проявляться к творчеству Хэзлитта как эссеиста, только в конце девятнадцатого века, спустя много времени после смерти Хэзлитта, значительный интерес снова проявился к его интерпретациям Шекспира. В двадцатом веке влиятельный критик А.С. Брэдли и некоторые другие начали серьезно относиться к содержащимся в книге интерпретациям многих персонажей Шекспира. Но затем Хэзлитта вместе с Брэдли подвергли критике за проявление недостатков «характерной» школы шекспировской критики, в первую очередь за обсуждение драматических персонажей, как если бы они были реальными людьми, и снова вклад Хэзлитта в шекспировскую критику был осужден.
Возрождение интереса к Хэзлитту как к мыслителю началось в середине 20 века. Его мысли о пьесах Шекспира в целом (особенно о трагедиях), его обсуждения некоторых персонажей, таких как Шейлок , Фальстаф , Имоджин , Калибан и Яго , а также его идеи о природе драмы и поэзии в целом, например, выраженные в эссе о Кориолан получил новое признание и оказал влияние на другую критику Шекспира.
Идеи Хэзлитта о многих пьесах теперь стали цениться как заставляющая задуматься альтернатива идеям его современника Кольриджа, а « Персонажи пьес Шекспира» теперь рассматриваются как серьезное исследование пьес Шекспира, помещая Хэзлитта вместе со Шлегелем и Кольриджем в число три наиболее известных шекспировских критика периода романтизма .
Фон
[ редактировать ]
26 января 1814 года Эдмунд Кин дебютировал в роли Шейлока в пьесе Шекспира « Венецианский купец» в лондонском театре «Друри-Лейн» . Уильям Хэзлитт, драматический критик газеты Morning Chronicle с сентября прошлого года, присутствовал в зале. Он написал потрясающий отзыв, [ 1 ] за которыми последовали еще несколько аплодисментов (но иногда и порицаний) [ 2 ] Выступления Кина в других шекспировских трагедиях, включая «Короля Ричарда II» , «Короля Ричарда III» , «Гамлета» , «Макбета» , «Ромео и Джульетту» , и, что Хэзлитт считал лучшим из выступлений Кина, «Отелло» . [ 3 ] (Они были написаны для « Морнинг кроникл» , «Чемпиона » и « Экзаминера» ; в последнем из них он оставался главным драматическим критиком в течение трех лет.) [ 4 ] Кин до сих пор был неизвестен в Лондоне. Хэзлитт, недавно начавший карьеру театрального обозревателя, был не более известен, чем объект его рецензий. Эти уведомления быстро привлекли внимание общественности к Кину и Хэзлитту. [ 5 ]
Готовясь к рецензии на драму, Хэзлитт имел привычку читать или перечитывать пьесу, которую ему предстояло вскоре увидеть: [ 6 ] и его рецензии стали включать обширные комментарии к самим пьесам, быстро переходя от драматической критики к литературной критике. [ 7 ] В частности, в случае с Шекспиром это привело к размышлениям о том, как актеры – опять же, особенно его любимый Кин – передавали послание пьес. Но он также отметил, что ни одна актерская интерпретация не может соответствовать замыслу драматурга. [ 8 ]
По мере того как его размышления развивались в этом направлении, Хэзлитт продолжал публиковать разные статьи в различных периодических изданиях. [ 9 ] В феврале 1816 года он сделал рецензию Августа Вильгельма Шлегеля для на «Лекции по драматической литературе» « Эдинбургского обозрения» . Немецкий критик Шлегель выказывал такое уважение к Шекспиру, которого еще никто в стране Хэзлитта не демонстрировал, и Хэзлитт, сочувствуя многим идеям Шлегеля, чувствовал, что есть место для целой книги, в которой будет дана признательная критика всех произведений Шекспира. играет. В такой книге будут даны обильные цитаты из текста и основное внимание будет уделено персонажам и различным качествам, характерным для каждой пьесы; и он чувствовал, что может это написать. [ 10 ] Его писательская карьера теперь двигалась в этом направлении (в этот период он публиковал различные литературные критические статьи в журнале Examiner и других изданиях), ему нужны были деньги, чтобы поддержать свою семью. [ 11 ] а его растущая репутация драматического критика позволила ему разместить свое имя на титульном листе (как рецензент периодических изданий, его статьи были анонимными, как это было принято в то время). [ 8 ]
Так персонажи пьес Шекспира родились . В книгу был включен значительный материал, который он уже проработал в своих обзорах драмы. Одно эссе, « Сон в летнюю ночь », было полностью взято из статьи в серии «Круглый стол» в « Examiner» , впервые опубликованной 26 ноября 1815 года, с заключительным абзацем, добавленным из обзора драмы, также опубликованного в « Examiner» . 21 января 1816 г. Были материалы и из других очерков. Большая часть «Точного различения Шекспиром почти похожих персонажей» (The Examiner , 12 мая 1816 г.) попала в главы, посвященные королю Генриху IV , королю Генриху VI и Отелло . [ 12 ] Отрывки из «Женских персонажей Шекспира» (The Examiner , 28 июля 1816 г.) нашли место в главах, посвященных Цимбелину и Отелло . [ 13 ] Хэзлитт заполнил остальную часть того, что ему нужно было для создания полной книги в 1816 году и, возможно, в начале 1817 года. [ 14 ]
В это время, недовольный тем, как его сборник «Круглый стол» , вышедший в том же году, продвигался издателем, он начал сам продвигать свою новую книгу, отчасти устно, а также уговорив друга опубликовать книгу. главу о Гамлете в «Таймс» и попросил Фрэнсиса Джеффри , редактора « Эдинбургского обозрения» , отметить ее в этом периодическом издании. [ 15 ] Он уже напечатал ее в частном порядке (вместо того, чтобы предлагать ее непосредственно издателю) своему другу, печатнику Кэрью Генри Рейнеллу, который приобрел авторские права за 100 фунтов стерлингов. В качестве рекламной тактики копии распространялись в частном порядке. Наконец, Хэзлитт опубликовал книгу в сотрудничестве с Роулендом Хантером и братьями Чарльзом и Джеймсом Оллиерами , которые выпустили ее 9 июля 1817 года. [ 15 ] Оно имело огромный успех: первое издание было распродано за шесть недель. Второе издание было выпущено Тейлором и Хесси в 1818 году. [ 16 ] а позже в том же году Уэллс и Лилли выпустили в Бостоне нелицензионное издание. [ 17 ] При жизни Хэзлитта дальнейших изданий не вышло. [ 18 ]
Эссе
[ редактировать ]Персонажи пьес Шекспира состоят в основном из впечатлений и мыслей Хэзлитта обо всех пьесах Уильяма Шекспира, которые он считал подлинными. [ 19 ] Это была первая книга такого рода, когда-либо написанная кем-либо. [ 20 ] Его основное внимание уделяется персонажам, которые появляются в пьесах, но он также комментирует драматическую структуру и поэзию пьес. [ 21 ] часто ссылаясь на комментарии более ранних критиков, а также на манеру поведения персонажей на сцене. Очерков самих пьес (есть «Предисловие», а также эссе «Сомнительные пьесы Шекспира» и одно «Стихи и сонеты») насчитывается тридцать два, но два из них охватывают пять из пьес, всего обсуждаемых пьес насчитывается тридцать пять. Хотя каждое эссе представляет собой главу в книге, по стилю и объему они напоминают сборник Хэзлитта «Круглый стол» (опубликованный также в 1817 году в сотрудничестве с Ли Хантом ). [ 22 ] который следовал модели периодических эссе, установленной столетием ранее в журнале «Зритель» . [ 11 ]
Хотя Хэзлитт мог найти много интересного в комедиях , трагедия была для него по своей сути более важной, и он придавал трагедиям гораздо большее значение. [ 23 ] В этом он отличался от Джонсона, который считал Шекспира лучшим комедийным персонажем. Величайшими пьесами были трагедии — особенно «Макбет» , «Отелло» , «Король Лир » и «Гамлет» , — и комментарии Хэзлитта о трагедии часто сочетаются с его идеями о значении поэзии и художественной литературы в целом. [ 24 ] Как он выразился в конце «Лира», трагедия описывает самые сильные страсти, а «величайшая сила гения проявляется здесь в описании самых сильных страстей: ибо сила воображения в произведениях изобретения должна быть пропорциональна силе естественных впечатлений, которые являются их предметом». [ 25 ]
Предисловие
[ редактировать ]В «Предисловии» Хэзлитт акцентирует свое внимание на «персонажах», цитируя комментарий Поупа о том, что «каждый персонаж Шекспира в такой же степени индивидуален, как и персонажи в самой жизни». [ 26 ] Изучив других критиков Шекспира, Хэзлитт сосредотачивается на двух наиболее важных из них, включая влиятельного доктора Джонсона. Хэзлитт нашел шекспировскую критику Джонсона, ведущего литературного критика предыдущей эпохи, тревожной по нескольким причинам. Он недостаточно ценил трагедии; он упустил суть большей части поэзии; и он «свел все к общему стандарту условного приличия [...] самая изысканная утонченность или возвышенность производили эффект на его ум только тогда, когда их можно было перевести на язык размеренной прозы». [ 27 ] Джонсон также считал, что каждый персонаж Шекспира представляет «тип» или «вид». [ 22 ] тогда как Хэзлитт, встав на сторону Поупа, подчеркивал индивидуальность шекспировских персонажей, обсуждая их более подробно, чем кто-либо еще.
Величайшим критиком пьес Шекспира Хэзлитт считал не английского критика, а немца Августа Вильгельма Шлегеля, чьи лекции по драме недавно были переведены на английский язык. Хэзлитт включает здесь длинные выдержки из Шлегеля о Шекспире, расходясь с ним главным образом в отношении того, что он называл «мистикой», которая проявляется в интерпретациях Шлегеля. Он разделял со Шлегелем энтузиазм по поводу Шекспира, которого, по его мнению, не хватало доктору Джонсону. «Перенапряженный энтузиазм, — замечает он, — более простителен по отношению к Шекспиру, чем его отсутствие, ибо наше восхищение не может легко превзойти его гений». [ 28 ]
Цимбелин
[ редактировать ]Как один из его фаворитов, [ 29 ] Хэзлитт ставит Цимбелин на первое место в своих обсуждениях пьес Шекспира, учитывая его обширную трактовку. Это включает в себя его личные впечатления об отдельных персонажах (как следует из названия книги), но также и более широкое рассмотрение, за которое ему не будут приписывать по крайней мере полтора столетия. [ 30 ]

«Самое большое очарование пьесы - это образ Имоджин », - пишет Хэзлитт. [ 31 ] Он наблюдает, как, оправдывая свои действия, «она мало полагается на свое личное обаяние». [ 32 ] или ханжеская «наигранная антипатия к пороку» [ 33 ] а скорее «по ее заслугам, а заслуга ее в глубине ее любви, ее правдивости и постоянстве». [ 32 ] Изложение Шекспира полно и разносторонне. Мы видим ее красоту глазами других (например, злодея Якимо), [ 34 ] но чаще мы видим ее изнутри и умиляемся, когда после бесконечных ночей, когда она рыдала, не просыпаясь из-за потери Постумуса, она возмущается, узнав (как ей сообщают ложно), что « Некий Джей из Италии [.. .] предал его » . [ 35 ] И мы являемся свидетелями момента в развитии ее характера, когда ее решимость замаскироваться и найти Постума становится все более твердой. [ 36 ] «Из всех женщин Шекспира она, пожалуй, самая нежная и самая бесхитростная». [ 37 ]
Хэзлитт расширяет сферу этих размышлений, рассматривая «героинь Шекспира» в целом, написав: «Никто никогда не достигал истинного совершенства женского характера, чувства слабости, опирающегося на силу своей привязанности к поддержке, а также Шекспир». [ 31 ] (Здесь Хэзлитт включает материал из своего эссе «Женские персонажи Шекспира», опубликованного в журнале Examiner 28 июля 1816 года.) [ 38 ]
Хэзлитт в меньшей степени комментирует других персонажей, таких как Беллариус, Гидериус и Арвирагус ; чаще он показывает, как персонажи относятся друг к другу и к строю пьесы. Эти трое, например, «являются прекрасным облегчением интриг и искусственных утонченностей двора, из которого они изгнаны». [ 39 ]
Характер Клотена, «тщеславного господина-болвана», обсуждается как повод отметить, как Шекспир изобразил самое противоречивое в человеческой природе. Клотен, «при всей нелепости своей личности и манер, не лишен проницательности в своих наблюдениях». [ 40 ] И снова Хэзлитт делает шаг назад и указывает на то, как Шекспир противопоставлял одного персонажа другому и представлял персонажей похожих типов, но с небольшими изменениями их в остальном сходных черт, чтобы передать определенное впечатление о человеческой природе. Хэзлитт отмечает:
[А]как это бывает в большинстве произведений автора, здесь не только предельная выдержанность в каждом отдельном персонаже; но в отливке различных частей и их отношении друг к другу существует сходство и гармония, подобная тому, что мы можем наблюдать в градациях цвета на картине. Поразительные и сильные контрасты, которыми изобилует Шекспир, не могли ускользнуть от внимания; но тому, как он использует принцип аналогии для примирения величайших различий характеров и сохранения непрерывности чувств во всем, не уделено достаточного внимания. [ 41 ]
Как и в случае с персонажами, Хэзлитт наблюдает за закономерностями, которые обнаруживает в сюжете. Ему нечего критиковать ее с точки зрения классических « единств ». [ 42 ] Сюжет нужно воспринимать по-своему. Если действие затянуто, «интерес становится более воздушным и утонченным из-за принципа перспективы, вносимой в предмет воображаемыми изменениями сцены, а также продолжительностью, которую она занимает». [ 43 ]
Что касается сплетения Шекспиром нитей истории, Хэзлитт восхищается «легкостью и сознательной беззаботностью», с которой «самые разрозненные и, казалось бы, случайные происшествия придуманы [и] таким образом, чтобы привести, наконец, к наиболее полной развитие катастрофы». [ 44 ] Опять же, он расширяет дискуссию и выступает против мнения доктора Джонсона, «что Шекспир в целом был невнимателен к завершению своих сюжетов. Мы думаем, что верно обратное; и мы могли бы в доказательство этого замечания привести не только настоящее пьесы, но завершение « Лира », «Ромео и Джульетты» , «Макбета » , «Отелло» , даже «Гамлета » и других менее значительных пьес, в которых последний акт наполнен решающими событиями. вызванное естественным путем». [ 44 ]
Помимо сюжета, помимо отдельных персонажей, Хэзлитт завершает свое обсуждение, отмечая преобладающее настроение, «нежную мрачность, [которая] окутывает всю» пьесу. [ 31 ] Он видит параллельные, но слегка контрастирующие линии истории, играющие друг против друга «бессознательно» в сознании читателя и автора, действуя «силой естественных ассоциаций, особого хода мыслей, предполагающего различные оттенки одного и того же преобладающего слова». чувствуя, сливаясь и усиливая друг друга, как аккорды в музыке». [ 45 ] Таким образом, Хэзлитт не просто комментирует отдельных персонажей, он раскрывает характер пьесы в целом. [ 46 ]
Кориолан
[ редактировать ]
В эссе о Кориолане Хэзлитт уделяет внимание не различным персонажам трагедии Шекспира, а фундаментальным моральным и политическим принципам, лежащим в основе их действий. Для Хэзлитта эта пьеса продемонстрировала в действии концепции, лежащие в основе политических произведений его времени, таких как « Размышления Эдмунда Бёрка о революции во Франции» и » Томаса Пейна «Права человека . [ 47 ] Характер Кориолана представляет собой тип аристократического героя, хотя и представлен как всесторонне развитая личность, с «гордостью», состоящей из «непреклонной суровости воли», «любви к репутации» и «славе», а также «презрения». общественного мнения». [ 47 ] Хэзлитт также комментирует характеры матери и жены Кориолана и указывает на существенную верность этой пьесы своему источнику в переводе Томаса Норта « Плутарха Жизнеописаний благородных греков и римлян» , извлекая длинные отрывки из жизни Кориолана. [ 48 ]
Однако его основное внимание сосредоточено на шекспировской инсценировке «аргументов за и против аристократии и демократии, о привилегиях немногих и притязаниях многих». [ 47 ] Шекспир показывает слабости как знати, так и народа, но, по мнению Хэзлитта, он был несколько предвзят в пользу знати, что заставило его замалчивать их недостатки в большей степени, чем недостатки простых людей. [ 49 ]
Но Хэзлитт идет дальше и развивает идею, которая лишь намного позже стала иметь радикальное значение для теории литературы: он утверждает, что самой природе поэзии свойственно прославлять аристократа, одинокого героя и монарха, в то же время менее подходит для изображения социальных проблем простых людей способами, которые захватывают воображение. [ 50 ] Поэтическое «воображение естественным образом вписывается в язык власти. Воображение — преувеличенная и исключительная способность: оно берет одну вещь, чтобы добавить к другой: оно накапливает обстоятельства вместе, чтобы дать максимально возможный эффект любимому объекту». [ 51 ] С другой стороны, язык, который будет использоваться для аргументации интересов народа, больше опирается на «понимание», которое «является разделяющей и измеряющей способностью: оно судит о вещах не в соответствии с их непосредственным впечатлением на ум, а в соответствии с их отношениями друг к другу. [...] Поэзия [с другой стороны] является королевским правом. Она ставит личность для вида, одного над бесконечным множеством, перед правом». [ 52 ]
«Поэтому мы испытываем некоторую заботу о бедных гражданах Рима, когда они собираются вместе, чтобы сравнить свои нужды и обиды, пока не приходит Кориолан и с помощью ударов и громких слов не загонит эту группу «бедных крыс», эту негодяйскую нечисть, в их дома и перед ним нет ничего героического в множестве несчастных негодяев, не желающих умереть с голоду [...], но когда одинокий человек выходит вперед, чтобы выдержать их крики и заставить их подчиниться последним унижениям, из простой гордости и своеволия наше восхищение его доблестью немедленно превращается в презрение к их малодушию». [ 53 ] Ключом к успеху Хэзлитта является врожденная человеческая «любовь к власти». Эта любовь к власти не обязательно выражается в желании физически доминировать над другими; но, по крайней мере, существует тенденция встать на сторону силы воображения, эмоционально поколебаться и увлечься силой поэтического языка. Позднее было замечено, что поклонение Хэзлитту Наполеону можно рассматривать как пример этой тенденции. [ 54 ]
Хэзлитт по большей части был согласен со своими современными романтиками в том, что поэзия может сделать нас лучше. В следующем году в своих «Лекциях об английских поэтах» , обращаясь особенно к трагической поэзии, он заметит, что «по мере того, как она обостряет грань бедствий и разочарований, она усиливает стремление к добру». [ 55 ] Тем не менее, он по-прежнему внимательно следил за тем, как поэзия может выражать и укреплять наши менее достойные восхищения тенденции. Следуя наблюдению за Берком, он отмечает, что «люди стекаются, чтобы увидеть трагедию; но если бы на соседней улице произошла публичная казнь, театр очень скоро опустел бы. [...] Мы [...] любим потакание нашим бурным страстям [...] Мы не можем с этим поделать. Чувство власти является таким же сильным принципом в уме, как и любовь к удовольствиям». [ 56 ]
Вызывает тревогу тот факт, что эта тенденция, как показано в «Кориолане» , может показаться настолько прославляющей тиранию и угнетение, что побудит людей принять их на практике:
Вся драматическая мораль Кориолана состоит в том, что те, у кого мало, будут иметь меньше, а те, у кого много, заберут все, что осталось у других. Люди бедны; поэтому их следует морить голодом. Они рабы; поэтому их следует бить. Они много работают; поэтому с ними следует обращаться как с вьючными животными. Они невежественны; поэтому нельзя позволять им чувствовать, что они нуждаются в пище, или одежде, или отдыхе, что они порабощены, угнетены и несчастны. Это логика воображения и страстей; которые стремятся возвеличить то, что вызывает восхищение, и презирать нищету, возвести власть в тиранию и сделать тиранию абсолютной; низвергнуть низкое еще ниже и довести несчастных до отчаяния: возвысить судей до царей, королей до богов; низводить подданных до ранга рабов, а рабов до состояния скота. История человечества — это роман, маска, трагедия, построенная на принципах поэтической справедливости; это благородная или королевская охота, в которой то, что является развлечением для немногих, является смертью для многих, и в которой зрители аплодируют и поощряют сильных нападать на слабых и кричат о хаосе в погоне, хотя они и не участвуют в охоте. добыча. Мы можем быть уверены в том, что то, что людям нравится читать в книгах, они реализуют на практике. [ 57 ]
Таким образом Хэзлитт продемонстрировал, как поэзию можно использовать для прославления тирании и угнетения — тенденцию, которая, как он заметил, была пугающе заметной у Кориолана . Пожизненный защитник свободы личности и дела народа в противовес угнетению аристократии, тирании « законной » монархии, [ 58 ] Хэзлитта беспокоила эта тенденция человеческого воображения, выраженная в поэзии, и именно здесь эти опасения впервые вошли в его общую теорию поэзии. [ 50 ] Эти мысли не были особо замечены в течение полутора столетий, когда критик Джон Киннэрд отметил, насколько странно расходилась с более типичными критическими теориями поэзии идея Хэзлитта, отличая его от таких современников, как Вордсворт и Кольридж: «Студенты Хэзлитта мысль странным образом пренебрегла этим отрывком, однако идея, которую он вводит, является, возможно, самой оригинальной и, несомненно, самой еретической идеей во всем диапазоне его критики». [ 50 ] Киннэрд отмечает, что Лайонел Триллинг был первым критиком, который осознал «оригинальность и важность этого отрывка», хотя даже Триллинг интерпретировал идею Хэзлитта о человеческой любви к власти в слишком узком смысле. [ 59 ]
Наблюдая за действием того, что он считал тревожной тенденцией поэтического воображения, а также за возможной аристократической предвзятостью Шекспира, Хэзлитт затем замечает, что, в конце концов, даже в этом драматическом контексте проявляются черты характера Кориолана, которые Шекспир ясно показывает как менее чем достойно восхищения. Например, «Кориолан жалуется на непостоянство народа: однако в тот момент, когда он не может удовлетворить свою гордость и упрямство за их счет, он обращает оружие против своей собственной страны. Если его страна не достойна защиты, то зачем он построил свою гордость за свою защиту?» [ 60 ]
В конечном итоге Хэзлитт попытался составить взвешенное мнение о пьесе. Сравнивая отчет Хэзлитта с отчетом известного современника, Дэвид Бромвич подумал, что ничего подобного этой критической позиции «нельзя найти нигде во всем диапазоне критики Кольриджа». [ 61 ]
Фальстаф ( «Генрих IV» и «Виндзорские веселые жены »)
[ редактировать ]
Персонаж сэра Джона Фальстафа появился в трех пьесах Шекспира: «Генрих IV, часть 1» , «Генрих IV, часть 2 » и «Виндзорские веселые жены» . Основная часть комментариев Хэзлитта к двум историческим пьесам посвящена Фальстафу, которого он считает «возможно, самым существенным комическим персонажем, когда-либо изобретенным». [ 62 ]
Фальстаф уже много лет интересовал шекспировских комментаторов. За сорок лет до этого появилась полноценная книга «Очерк драматического характера сэра Джона Фальстафа» (1777) Мориса Моргана , которую часто воспринимают как начало той школы шекспировской критики, которая рассматривает персонажей пьес Шекспира как бы они были реальными людьми. [ 63 ] Хэзлитт, который, похоже, был мало знаком с работами Морганна, [ 64 ] старается никогда не упускать из виду статус Фальстафа как персонажа пьесы. [ 65 ] — фактически три пьесы, хотя обе части «Генриха IV» рассматриваются в одном эссе.
Передавая свои впечатления о Фальстафе, Хэзлитт прежде всего подчеркивает ту огромную физическую массу, по которой мы его помним: «Мы так же хорошо знакомы с его личностью, как и с его умом, и его шутки воздействуют на нас с двойной силой и наслаждением, благодаря количеству плоти и которым они пробираются, а он от смеха трясет своими толстыми боками [...]. [ 62 ]
Затем Хэзлитт отмечает связь между телом Фальстафа и его «остроумием»: «Остроумие Фальстафа — это проявление прекрасного телосложения; изобилие добродушия и добродушия; избыток его любви к смеху и хорошему общению; к легкости его сердца и чрезмерному удовлетворению собой и другими». [ 66 ]
Отвечая тем, кто считает Фальстафа «простым сластолюбцем», он указывает, как мало мы на самом деле видим, как Фальстаф потакает себе. «Все это так же в воображении, как и в реальности. Его чувственность не поглощает и не отупляет другие его способности [...]. Его воображение поддерживает мяч после того, как его чувства закончили с ним. Кажется, он получает даже большее удовольствие свободы от ограничений, хорошего настроения, его непринужденности, его тщеславия в идеальном преувеличенном описании, которое он дает им, чем на самом деле». [ 67 ]
Это заставляет Хэзлитта задуматься, почему, когда Фальстаф «представлен лжецом, хвастуном, трусом, обжорой и т. д., [...] мы не обижаемся, а восхищаемся им [...]». [ 68 ] Ответ заключается в том, что «все это он делает не только для того, чтобы развлечь других, но и для того, чтобы доставить себе удовольствие. Он открыто принимает все эти образы, чтобы показать их юмористическую часть. Одним словом, он актер сам по себе почти в такой же степени, как и на сцене, и мы не более возражаем против характера Фальстафа с моральной точки зрения, чем мы могли бы думать о том, чтобы создать превосходный образ. комик, который должен представить его при жизни, перед одним из полицейских участков». [ 68 ]
Хэзлитт продолжает представлять отрывки из своих любимых сцен, в том числе между Фальстафом и принцем Хэлом, а также Фальстафом и госпожой Квикли. Это объединено с рассмотрением того, как Фальстаф взаимодействует с некоторыми другими персонажами, и тем, как персонажи Шекспира размышляют друг о друге, причем каждый своим поведением проливает свет на ключевые черты других. [ 69 ]
Это, в свою очередь, приводит к комментариям к «героическим и серьезным частям» «Генриха IV» , частям 1 и 2 и, наконец, к более общим размышлениям о гениальности Шекспира. [ 70 ] Но львиная доля дискуссий была о персонаже Фальстафа, и Хэзлитт заканчивает свое эссе о двух исторических пьесах, балансируя свои личные чувства по поводу Фальстафа с более отстраненным и объективным комментарием о драмах, разыгрываемых историей в более широком контексте:
«Правда в том, что мы никогда не могли простить принцу обращения с Фальстафом [...]», изгнав его после того, как принц стал королем Генрихом V, «хотя, возможно, Шекспир знал, что лучше всего, согласно истории, характер времени и человека». [ 71 ]
Восторженное объяснение Хэзлитта о том, как полнота Фальстафа способствует нашей забавной симпатии к нему, позже вызвало особое восхищение у критика Джона Довера Уилсона . [ 72 ] А Джон Киннэрд считал «набросок Фальстафа» в этом эссе «шедевром», «блестящим [...] портретом воплощенного комического изобилия», хотя, возможно, отчасти творением его собственного воображения, а не полностью верным. персонажу, созданному Шекспиром. [ 73 ] Совсем недавно критик Гарольд Блум в книге, полностью посвященной Фальстафу, одобрительно отметил благодарный комментарий Хэзлитта о персонаже, процитировав наблюдение Хэзлитта о том, что Фальстаф «живет в условиях вечного праздника и открытого дома, и мы живем с ним в кругу приглашений охвостье и дюжина». [ 74 ]
Появление Фальстафа в «Виндзорских веселых женушках» гораздо менее значимо; хотя он нашел в этой пьесе вещи, которыми можно восхищаться, Хэзлитт сказал: «Фальстаф в « Виндзорских веселых женах» не тот человек, которым он был в двух частях «Генриха IV ». [ 75 ]
Гамлет
[ редактировать ]
Хотя временами Хэзлитт восхищался актерскими интерпретациями шекспировских персонажей и считал, что некоторые пьесы Шекспира в высшей степени подходят для сцены, он открывает главу о «Гамлете» заявлением: «Нам не нравится, когда играют пьесы нашего автора, и уж тем более все, Гамлет». [ 76 ] Здесь, больше, чем где-либо еще, он поддерживает Чарльза Лэмба , считая, что пьесы Шекспира страдают от сценического исполнения. Ни Джон Кембл, ни его любимый актер Эдмунд Кин не сыграли роль Гамлета до его удовлетворения. «Гамлет мистера Кина настолько же слишком раздражителен и опрометчив, насколько Гамлет мистера Кембла слишком обдуман и формален». [ 76 ] Он чувствовал, что эту пьесу следует читать, и отмечал, что к его времени ее уже читали так часто, что она стала частью общей культуры. «Это тот Гамлет-датчанин, о котором мы читали в юности». [ 77 ] Можно сказать, замечает он, что Гамлет — это всего лишь персонаж пьесы: «Гамлет — это имя; его речи и высказывания — лишь праздная чеканка в мозгу поэта». [ 78 ] И все же Шекспир придает этим высказываниям реальность в сознании читателя, делая их «столь же реальными, как наши собственные мысли». [ 78 ]
Из всех пьес Шекспира эта «наиболее замечательна по изобретательности, оригинальности и неизученному развитию характеров». [ 79 ] пишет Хэзлитт. Он думал о «Гамлете» чаще, чем о любой другой пьесе Шекспира, потому что «она более всего изобилует яркими размышлениями о человеческой жизни и потому, что страдания Гамлета переносят, по повороту его ума, на общий рассказ о человечестве». [ 79 ]
«Характер Гамлета [...] — это характер, отмеченный не силой воли или даже страстью, а утонченностью мысли и чувства», [ 80 ] пишет Хэзлитт, и он встает на сторону Шлегеля и Кольриджа, считая, что Гамлет «кажется неспособным к обдуманным действиям». [ 81 ] «Его главная страсть — думать, а не действовать». [ 82 ]
Хотя основное внимание в этом эссе уделяется характеру принца Гамлета, Хэзлитт также комментирует ход драматического действия. Шекспир придает всем персонажам и обстановке атмосферу правдоподобия, так что читатель может считать, что «вся пьеса [является] точной транскрипцией того, что, как предполагалось, происходило при дворе Дании в отдаленный период времени. зацикливались на этом до того, как стали слышать о современных усовершенствованиях морали и манер [...] персонажи думают, говорят и действуют так, как могли бы, если бы были предоставлены полностью самим себе. Нет никакой определенной цели, никакого напряжения в какой-то момент. ." [ 83 ]
Хэзлитт также размышляет о глубоком понимании Шекспиром сложности человеческого характера. Королева Гертруда, «которая была столь преступна в некоторых отношениях, [была] не лишена чувствительности и привязанности в других жизненных отношениях». [ 84 ] Опять же, он комментирует идею, высказанную другими критиками, о том, что некоторые персонажи слишком непоследовательны в своем поведении, чтобы быть правдоподобными, особенно Полоний. Если «его совет [своему сыну] Лаэрту очень превосходен, а его совет королю и королеве по поводу безумия Гамлета очень смешон», [ 85 ] это «потому что [Шекспир] сохранил существующее в природе различие между пониманием и моральными привычками людей. [...] Полоний не дурак, но он делает себя таковым». [ 76 ]
Эссе Хэзлитта о Гамлете позже было использовано Дэвидом Бромвичем для обширного сравнения критических взглядов Кольриджа и Хэзлитта в целом. со стороны Кольриджа Хотя, по мнению Бромвича, критика Гамлета содержала большее количество оригинальных идей, включая общую оценку характера принца Гамлета, точка зрения Хэзлитта примечательна тем, что она, в отличие от Кольриджа, не сводит этого персонажа к одному доминирующему недостатку — его неспособности действовать. В одной из своих лекций о Шекспире Кольридж утверждал, что «Шекспир хотел внушить нам ту истину, что действие — это главная цель существования, и что никакие интеллектуальные способности, какими бы блестящими они ни были, не могут считаться ценными или иначе, как несчастьями. если они отвлекают нас от действия или делают его отталкивающим и заставляют нас думать и думать о действии, пока не пройдет время, когда мы сможем сделать что-либо эффективно». [ 86 ] Хэзлитт, с другой стороны, вместо того, чтобы применять эту мораль, указывал на необходимость идентификации каждого читателя с Гамлетом, чтобы понять его (что, по его мнению, происходило легче, чем с любым другим шекспировским персонажем), а также на необходимость читательского суждения о Гамлете в часть на основе того, что этот читатель тогда увидел в себе. Это делало маловероятным, что весь характер Гамлета будет сведен к одному недостатку, который преподнесет читателю моральный урок. [ 87 ]
Шекспир не заставлял принца Гамлета подчиняться каким-либо конкретным правилам морали. «Нравственное совершенство этого персонажа было поставлено под сомнение», — пишет Хэзлитт, — но «этические определения [Шекспира] не демонстрируют унылого квакеризма морали». [ 88 ] Хэзлитт понимал, что человеческий характер слишком сложен, чтобы такое изображение соответствовало истине человеческой природы. [ 89 ] «Что касается морали литературы, — замечает Бромвич, — Кольридж обычно оказывается решительным проводником, а Хэзлитт — тревожным наблюдателем». [ 90 ]
Джон Киннэрд в этом эссе также уделил особое внимание «знаменитому» наброску Хэзлитта о принце Гамлете. [ 91 ] Хотя Хэзлитт не полностью принадлежит к школе чистых критиков «характеров», это эссе, как правило, представляет собой скорее критику «характеров», чем другие, утверждает Киннэрд, потому что Хэзлитт разделял со своими современниками-романтиками «двойственное отношение к трагедии». Гамлет для него, как и для его современников, был современным персонажем, который был «одержим злом в мире [,] [...] стремился [ред] уйти от познания этого в себе [и имел] пессимистическое ощущение того, что страдание меняется. ничего и что мир должен продолжаться так, как есть». [ 92 ] Таким образом, Хэзлитт мог заявить: «Это мы — Гамлеты». [ 78 ]
Хэзлитт включил в эту главу материал из своей рецензии на исполнение Кином « Гамлета» на Друри-Лейн 12 марта 1814 года («Гамлет мистера Кина», The Morning Chronicle , 14 марта 1814 года). [ 93 ] В этот обзор уже вошли размышления Хэзлитта о сложности представления Гамлета на сцене после того, как он увидел, что даже его любимый Кин не смог адекватно интерпретировать характер Гамлета. Знаменитые отрывки, начинающиеся словами «Это тот самый Гамлет-датчанин» и включающие утверждение «Это мы — Гамлет», появляются, однако, только в окончательной форме эссе в «Персонажах пьес Шекспира ». [ 78 ]
Король Лир
[ редактировать ]
В эссе о короле Лире , которое он назвал просто «Лир», Хэзлитт не делает упоминаний об игре каких-либо актеров. Фактически здесь он полностью согласен с Лэмбом в том, что Короля Лира , как и Гамлета , невозможно достойно представить на сцене. Он чувствовал, что ни один актер не сможет отдать должное подавляющей творческой силе этой пьесы. [ 94 ]
Хэзлитта настолько глубоко затронула эта трагедия, что он начинает главу с сожаления о том, что ему вообще пришлось о ней писать. «Пытаться дать описание самой пьесы или ее воздействия на сознание — просто дерзость». [ 95 ] Тем не менее, то, что он написал, оказалось важной частью литературной критики, которая способствовала развитию его общих представлений о трагедии и поэзии и произвела сильное впечатление на поэта Джона Китса. [ 96 ]
«Величайшая сила гения, — пишет Хэзлитт, — проявляется в описании самых сильных страстей». [ 25 ] Сюжетом этой пьесы являются самые сильные страсти, [ 95 ] и гений Шекспира оказался на высоте. Здесь Шекспир был более «серьёзен», чем в любом другом своем творении, и «он изрядно попал в паутину собственного воображения». [ 95 ] Результатом стала его лучшая трагедия, а значит и лучшая пьеса. [ 24 ]
О короле Лире в целом Хэзлитт пишет:
Страсть, которую он взял своим предметом, - это то, что глубже всего пускает корни в человеческое сердце [...] Эта глубина природы, эта сила страсти, это перетягивание и борьба элементов нашего существа, эта твердая вера в сыновняя почтительность, головокружительная анархия и кружение мыслей, когда эта опора выходит из строя, контраст между прочной, неподвижной основой естественной привязанности и быстрыми, нерегулярными порывами воображения, внезапно вырванного из всех своих привычных хваток и места отдыха в душе — вот что дал Шекспир и что никто другой, кроме него, не мог дать. [ 97 ]
Некоторое место отведено психологическому исследованию главных героев, но также с учетом их функции в драматической конструкции. «Характер Лира» идеально продуман для своего места в пьесе, «единственной основы, на которой такая история могла бы быть построена с величайшей правдивостью и эффектом. Это его необдуманная поспешность, его неистовая порывистость, его слепота ко всему». но диктат его страстей или привязанностей, который вызывает все его несчастья, который усугубляет его нетерпение по отношению к ним, который усиливает нашу жалость к нему». [ 98 ]
Затем Хэзлитт комментирует некоторых других персонажей, которых мы видим не изолированно, а по мере того, как они взаимодействуют и влияют друг на друга, сравнивая и противопоставляя их, чтобы подчеркнуть тонкие различия. Например, характеры Гонерильи и Реганы, сравнение которых он начинает с нотки личного отвращения («они настолько ненавистны, что мы даже не любим повторять их имена»), [ 99 ] показаны, указывает он, отчасти в их реакции на желание сестры Корделии, чтобы они хорошо относились к отцу — « Не предписывайте нам наши обязанности » — и отчасти в контрасте их лицемерия с откровенностью злого Эдмунда. . [ 100 ]
Хэзлитт ненадолго задерживается на характере третьей дочери Лира, Корделии, отмечая в одном из своих психологических замечаний, что «в нескромной простоте ее любви [...] есть немного упрямства ее отца». [ 99 ]
Выходя за рамки конкретных персонажей или даже конкретных взаимодействий между ними, Хэзлитт обрисовывает то, что он называет «логикой страсти». [ 101 ] ритм эмоций в драме и его влияние на сознание читателя или зрителя. «Мы видим приливы и отливы чувства, его паузы и лихорадочные старты, его нетерпение к сопротивлению, его накапливающуюся силу, когда оно успевает вспомнить себя, то, как оно пользуется каждым мимолетным словом или жестом, его поспешность. отразить инсинуации, попеременное сжатие и расширение души и всю «ослепительную ограду спора» в этой смертельной схватке с отравленным оружием, направленным в сердце, где каждая рана смертельна». [ 102 ] Он также отмечает, объясняя пример того, что позже стали называть комическим облегчением, как, когда чувства читателя напряжены до предела, «точно так же, как [...] волокна сердца [...] растут застывший от чрезмерного возбуждения [...] [т]воображение радо укрыться в полукомических, полусерьёзных комментариях Дурака, точно так же, как разум под сильнейшими муками хирургической операции изливает себя в остроумные выходки». [ 103 ]
И снова, говоря об артистизме Шекспира, Хэзлитт отмечает, как второй сюжет, в котором участвуют Глостер, Эдгар и Эдмунд, переплетается с основным сюжетом: на пути искусства, поскольку продолжение волны страсти, все еще меняющейся и нетронутой, зависит от природы». [ 104 ]
Хэзлитт с благодарностью цитирует длинные отрывки из тех сцен, которые он считал одними из лучших, и отмечает, что, какими бы печальными ни были заключительные события, «подавление чувств облегчается самим интересом, который мы проявляем к несчастьям других, а также тем, что размышления, которые они порождают». [ 105 ] Это приводит к упоминанию существовавшей тогда практики замены на сцене трагического финала Шекспира счастливым концом, одобренного не меньшим авторитетом, чем доктор Джонсон. Выступая против этой практики, Хэзлитт приводит длинную цитату из статьи, написанной Лэмбом для «Рефлектора» Ли Ханта , в которой делается вывод: «Счастливый конец! не делать справедливое увольнение из жизни единственным приличным делом для него». [ 106 ]
Хэзлитт, однако, по мнению Джона Киннэрда, идет дальше Лэмба, утверждая, что именно отчаяние Лира, благодаря которому «все силы мысли и чувства» были выявлены и усилены, придает ему трагическую «силу и величие». [ 107 ]
К началу 1818 года, через несколько месяцев после публикации « Персонажей пьес Шекспира» , Джон Китс приобрел копию. Очарованный прочитанным, особенно эссе о короле Лире , он подчеркивал отрывки и добавлял комментарии на полях. Китсу особенно понравилось то, что Хэзлитт написал о «приливах и отливах чувств» в пьесе. [ 102 ] и отметил, используя термин, который, как он слышал, сам Хэзлитт применил к Шекспиру в своей лекции 27 января «О Шекспире и Мильтоне», [ 108 ] «Этот отрывок имеет в значительной степени иероглифическое видение». [ 109 ] Вместе с тем, что он уже читал о работах Хэзлитта, особенно эссе «На вкус» из «Круглого стола» , которое помогло ему развить его знаменитую идею о «отрицательных способностях», это эссе о короле Лире вдохновило его на большую часть его собственных стихов и мыслей. о поэзии. [ 110 ]
Хэзлитт завершает главу четырьмя тезисами о гениальности, поэзии и особенно трагедии. Для Дэвида Бромвича наиболее важным из них является третий: «Величайшая сила гения проявляется в описании самых сильных страстей: ибо сила воображения в творческих произведениях должна быть пропорциональна силе естественных впечатлений». , которые являются их предметом». [ 111 ]
Бромвич отметил, что мысли Хэзлитта, особенно применительно к Лиру , здесь совпадают с мыслями Шелли в его «Защите поэзии» . [ 112 ] Бромвич также отметил, что для Хэзлитта сила этой пьесы достигается нежеланием Шекспира смягчить резкость «природы», что выражено в прерывистых, прерывистых криках Лира, таких как «Я так отомщу вам обоим, [Гонерилья и Риган] ]/Что весь мир должен——". [ 113 ] Этому подходу никогда не следовал даже такой великий современный поэт, как Вордсворт. Для Хэзлитта это демонстрация того, почему величайшие поэзии его эпохи не смогли достичь того уровня величия, которого достиг здесь Шекспир. [ 112 ] Тот факт, что «Король Лир» сильнее всего подчинил художественность драматической поэзии силе природы, также объясняет, почему его поэзия превосходит более искусственную поэзию, созданную Поупом. [ 114 ]
Макбет
[ редактировать ]Среди четырех главных трагедий Шекспира «Макбет» , по мнению Хэзлитта в этой главе, отличается дикими крайностями действия, преобладанием насилия и изображением «воображения», напряженным до грани запретных и темных тайн существования. «Эта трагедия одинаково отличается высоким воображением, которое она демонстрирует, и бурной страстностью действия; одно становится движущим принципом другого», - пишет Хэзлитт. [ 115 ] «Макбет » «движется на краю пропасти и представляет собой постоянную борьбу между жизнью и смертью. Действие отчаянное, а реакция ужасная. [...] Вся пьеса представляет собой неуправляемый хаос странных и запретных вещей, где камни под нашими ногами». [ 116 ]
И здесь Хэзлитта интересуют не только отдельные персонажи, но и характер пьесы в целом, уделяя особое внимание сверхъестественной основе, с пророчествами трех ведьм на «выжженной пустоши», с которыми Макбет борется, борясь с его судьба, вплоть до трагической кульминации пьесы. Хэзлитта особенно интересует «замысел» «Макбета» , его общее настроение, его «полное поэтическое «впечатление » », [ 117 ] и в этом, по мнению Джона Киннэрда, он предвосхищает метод шекспировского критика двадцатого века Дж. Уилсона Найта. [ 117 ] «Шекспир», пишет Хэзлитт, «упустил из виду ничего, что могло бы каким-либо образом облегчить или усилить его тему [...]». [ 116 ]
Отмечая далее создание пьесы Шекспиром, Хэзлитт указывает на тонкие штрихи в начале, которые способствуют созданию единого эффекта: «Дикость декораций, внезапная смена ситуаций и персонажей, суета, возбужденные ожидания — [все] столь же необычайный». [ 115 ] «Шекспир, — пишет он, — преуспел в дебютах своих пьес: пьеса « Макбет» — самая яркая из всех». [ 118 ]
Он также, как и в своем эссе о «Гамлете» , отмечает реалистический эффект «Макбета» : «Его пьесы обладают силой вещей, воздействующих на разум. То, что он представляет, доносится до глубины души как часть нашего опыта, имплантируется в память как если бы мы знали места, людей и вещи, о которых он говорит». [ 118 ]
Рассматривая персонажей, Хэзлитт подчеркивает важность их взаимодействия, то, как поведение одного главного героя помогает определить поведение другого. Особенно это касается Макбета и леди Макбет, сплотившихся в борьбе против всей Шотландии и своей судьбы. Макбет, когда он собирается совершить свои самые кровавые дела, «охвачен уколами раскаяния и полон «сверхъестественных побуждений». [...] В мыслях он отсутствует и растерян, в поступках внезапный и отчаянный, из-за своей нерешительности». [ 119 ] Это контрастирует с характером «леди Макбет» и «оттеняет» его, чья упрямая сила воли и мужская твердость дают ей преимущество над ошибочной добродетелью ее мужа. [...] Величина ее решимости почти перекрывает всю степень ее вины». [ 119 ] Но по сути Макбет и леди Макбет меняются местами по мере развития действия. Он «становится более бессердечным по мере того, как глубже погружается в чувство вины [...] и [...] в конце концов предвосхищает свою жену в смелости и кровавости своих предприятий, в то время как она, из-за отсутствия того же стимула к действию, [. ..] сходит с ума и умирает». [ 120 ]
Здесь, как и везде, Хэзлитт освещает персонажей не только на контрасте с другими персонажами той же пьесы, но и с персонажами других пьес. Длинный отрывок, адаптированный из обзора драмы Хэзлитта 1814 года: [ 121 ] сравнивает Макбета и короля Ричарда III из одноименной пьесы Шекспира. Оба персонажа «тираны, узурпаторы, убийцы, оба честолюбивые и амбициозные, оба смелые, жестокие, вероломные». Но Ричард «от природы неспособен на добро» и «проходит через ряд преступлений [...] из-за неуправляемой жестокости своего нрава и безрассудной любви к озорству», в то время как Макбет «полон «молока человеческой доброты » "," с трудом уговорил его совершить [...] убийство Дункана " и полон "раскаяния после его совершения". [ 122 ]
Точно так же, хотя леди Макбет зла, «[она] зла только для того, чтобы добиться великой цели», и только ее «неумолимое своеволие» не позволяет ей отвлечься от «плохих целей», которые маскируют ее «естественные привязанности». "; [ 123 ] тогда как Гонерилья и Регана в «Короле Лире » «вызывают нашу ненависть и отвращение», в отличие от леди Макбет. [ 119 ] Далее Хэзлитт отмечает, что леди Макбет демонстрирует человеческие эмоции, «нарастающее ликование и острый дух триумфа, [...] неконтролируемое рвение предвкушения [...] твердое, существенное проявление страсти из плоти и крови»; а ведьмы из той же пьесы — всего лишь «проказницы», «нереальные, бесплодные, полусуществования». [ 124 ]
Благодаря их человеческим качествам мы никогда полностью не теряем симпатии к Макбету и леди Макбет, и наше воображение вместе с их воображением участвует в трагедии. Их воображение делает двоих более человечными, но в то же время разрушает их. Как указывает Киннэрд (развивая идею Джозефа В. Донохью-младшего), Хэзлитт отчасти рассматривает «Макбет» как трагедию самого воображения. [ 125 ]

Одна из проблем, на которую обращает внимание Хэзлитт, - это утверждение предыдущих критиков о том, что «Макбет» - это не что иное, как грубая и жестокая смесь крайностей, наполненная «готическим» варварством. [ 126 ] Хэзлитт, однако, отмечает, что если кто-то думает, что характер Макбета настолько состоит из противоречивых крайностей, что это неправдоподобно, то это, скорее, обстоятельства и страсти в конфликте, которые создают крайности, в то время как характер Макбета сохраняет сильное основное единство во всем. «Макбет у Шекспира не более утратил бы тождество своего характера в колебаниях судьбы или буре страстей, чем Макбет сам по себе утратил бы тождество своей личности». [ 127 ] Киннэрд отмечает, что здесь, словно предвосхищая это на столетие, Хэзлитт выступает против точки зрения, выдвинутой Элмером Эдгаром Столлом в 1933 году, о том, что характер Макбета слишком полон противоречий, чтобы быть правдоподобным. [ 126 ]
Хотя он с ностальгией вспоминает игру великой актрисы Сары Сиддонс в роли Леди Макбет, [ 128 ] а несколькими годами ранее признал, что Кин и Джон Кембл, по крайней мере частично, добились успеха в роли Макбета (хотя каждый в разных ее частях), [ 129 ] в целом он выразил сомнение в успехе постановки этой пьесы, снова согласившись с Лэмбом. К тому времени, когда он писал эту главу « Персонажи» , он мог написать: «Мы не можем представить [...] никого, кто мог бы правильно сыграть Макбета или выглядеть как человек, который столкнулся со Странными сестрами». [ 130 ] Далее следуют наблюдения о самих ведьмах. Частично проблема заключалась в том, что к его времени мало кто действительно верил в сверхъестественное, и «силой полиции и философии [...] призраки Шекспира устареют». [ 130 ] В заключение он подробно цитирует отрывок из эссе Лэмба об оригинальности шекспировского изображения ведьм. [ 131 ]
Венецианский купец
[ редактировать ]Трактовка Хэзлиттом «Венецианского купца» сосредоточена на персонаже Шейлока. Несколькими годами ранее Эдмунд Кин появился в роли еврейского ростовщика в своем дебютном выступлении на Друри-Лейн . Хэзлитт, драматический критик газеты Morning Chronicle в январе 1814 года, сидел рядом со сценой и наблюдал за каждым выражением лица, каждым движением. [ 132 ] Он был поражен радикально нетрадиционным для того времени изображением Кина Шейлока как полноценного, разностороннего, сложного человека, полного энергии, а не как неуклюжего, злобного стереотипа. [ 133 ] Его положительный отзыв об игре Кина сыграл решающую роль в карьере актера. Но игра Кина также помогла изменить взгляд Хэзлитта на Шейлока, который через несколько лет вошёл в это эссе. Хэзлитт признал, что он был склонен принять старую интерпретацию персонажа Шейлока, как он был изображен на сцене, которая следовала многовековым предрассудкам против евреев и делала его одномерным персонажем. Игра Кина побудила его внимательно изучить пьесу и глубоко задуматься о Шейлоке. Хотя разум Шейлока «искажен предрассудками и страстью [...], утверждение, что у него есть только одна идея, неверно; у него больше идей, чем у любого другого человека в произведении; и если он настойчив и упорен в достижении своей цели, он проявляет предельную гибкость, энергию и присутствие духа в средствах ее достижения». [ 133 ]
Хотя старые предрассудки против евреев начали исчезать, как отмечает Хэзлитт (он имеет в виду образ «доброжелательного еврея» в Ричарда Камберленда пьесе «Еврей 1794 года»), [ 134 ] и некоторые рецензенты начали находить что-то приличное в фигуре Шейлока, полтора века спустя критик Дэвид Бромвич предположил, что, оглядываясь назад, именно Хэзлитт, даже в большей степени, чем Кин, проложил путь к тому, что стало преобладающим чтением Характер Шейлока. Хотя Шейлок серьезно относится к мести, он верен себе и в других отношениях, что бросает далеко не благоприятный свет на других персонажей пьесы. [ 132 ] После рассказа Хэзлитта, по мнению Бромвича, стало труднее найти простое решение проблем пьесы или полностью отказаться от сочувствия к Шейлоку. [ 135 ] особенно учитывая такой отрывок:
Шейлок — хороший ненавистник ; «Человек не меньше согрешил, чем согрешил». Если он заходит в своей мести слишком далеко, у него есть веские основания для «затаенной ненависти, которую он питает к Антонио», которую он объясняет с равной силой красноречия и разума. Он кажется хранителем мести за свою расу; и хотя давняя привычка размышлять над ежедневными оскорблениями и обидами покрыла его характер закоренелой мизантропией и закалила его против презрения человечества, это мало что добавляет к торжествующим притязаниям его врагов. В нем сильное, острое и глубокое чувство справедливости, смешанное с желчью и горечью негодования. [...] Желание мести почти неотделимо от чувства несправедливости; и мы едва можем не сочувствовать гордому духу, спрятавшемуся под своим «еврейским габердином», доведенному до безумия неоднократными незаслуженными провокациями и старающемуся сбросить с себя груз поношений и угнетения, обрушившийся на него и все его племя одним отчаянным актом «законная» месть до тех пор, пока свирепость средств, с помощью которых он должен осуществить свою цель, и настойчивость, с которой он ее придерживается, не настроят нас против него; но даже в конце концов, когда он разочаровался в кровавой мести, которой он пресытил свои надежды, и подвергся нищенству и презрению из-за буквы закона, на котором он настаивал с таким небольшим раскаянием, мы жалеем его и думаем, что он почти не поступился с его судьями. [ 136 ]

Другие критики даже в более поздние годы настаивали на том, что характер Шейлока - это характер аутсайдера, отделенного от общества, что еврейский Шейлок представлял более старую форму справедливости, призванную вытеснить христианскую точку зрения, представленную Порцией , которая выступала за преобладание милосердия. Шейлок, утверждали эти критики, должен быть смещен, чтобы позволить обществу достичь христианской формы мира. Точка зрения Хэзлитта, однако, осталась действенной противовесной концепцией пьесы, которая не позволяет прийти к простым выводам или легко принять чью-либо сторону. [ 137 ]
Хэзлитт также размышляет о нескольких других персонажах. Порция, например, не была его любимицей, и «есть в ней определенная степень аффектации и педантичности». [ 138 ] Грациано он находит «очень замечательным второстепенным персонажем». [ 139 ]
И снова, как заметил Джон Киннэрд, Хэзлитт здесь гораздо больше, чем «критик персонажей», проявляющий серьезный интерес к структуре пьесы в целом. [ 21 ] «Вся сцена суда, — замечает он в этом эссе, — представляет собой шедевр драматического искусства. Юридическая острота, страстные декламации, здравые максимы юриспруденции, надежды и страха в разных людях, а также полнота и внезапность катастрофы не могут быть превзойдены». [ 140 ] Он указывает на некоторые красивые поэтические отрывки и заключает, что «изящное завершение этой пьесы [...] является одним из самых счастливых примеров познания Шекспиром принципов драмы». [ 141 ]
Отелло
[ редактировать ]
Хотя обсуждение Хэзлиттом «Отелло» включает наблюдения над персонажами, его рассмотрение этой пьесы, как и всех четырех главных трагедий, сочетается с идеями о цели и ценности трагедии и даже поэзии в целом. Развивая идею Аристотеля в «Поэтике» о том, что «трагедия очищает чувства ужасом и жалостью», [ 142 ] он утверждает, что трагедия «делает нас вдумчивыми наблюдателями в жизни. Это очиститель вида; дисциплина человечества». [ 143 ]
Более того, «Отелло» в большей степени, чем другие трагедии, имеет для обычного зрителя или читателя «близкое [...] приложение» к опыту повседневной жизни. [ 144 ] Хэзлитт подчеркивает этот момент, сравнивая Отелло с «Макбетом» , где «идет жестокая борьба между противоположными чувствами, между амбициями и угрызениями совести, почти от начала до конца: в «Отелло » сомнительный конфликт между противоположными страстями, хотя и ужасен, продолжается. лишь на короткое время, и главный интерес возбуждается попеременным господством разных страстей, полной и непредвиденной переменой от самой нежной любви и самого безграничного доверия к мукам ревности. и безумие ненависти». [ 145 ]
Обсуждение Хэзлиттом конкретных персонажей включает в себя наблюдения о том, как их создает Шекспир, показывая, что персонажи, даже внешне похожие, не являются широкими типами, а различаются в тонком смысле. Дездемона и Эмилия , например, «по внешнему виду являются персонажами повседневной жизни, не более выдающимися, чем обычно женщины, из-за разницы в ранге и положении». [ 145 ] По мере развития диалога «разница в их мыслях и чувствах, тем не менее, становится очевидной, их умы отделены друг от друга знаками, столь же ясными и столь же не допускающими ошибки, как цвет лица их мужей». [ 145 ]
При всем его часто отмечаемом внимании к характеру и персонажам [ 21 ] - Частично психологический подход Хэзлитта к персонажу обязательно относится к наблюдаемому поведению в реальной жизни - он также часто подчеркивает искусство, с помощью которого Шекспир создал драматического «персонажа». [ 146 ] Он считал, что особенно в трагедии «чувство силы» является основным средством, с помощью которого гениальный поэт воздействует на умы своей аудитории. [ 147 ] Когда автор вселяет в воображение читателя или зрителя чувство силы, которое он, должно быть, имел, схватывая и передавая переплетенные страсти, он заставляет нас идентифицировать себя с таким персонажем, как Отелло, и почувствовать в себе то, как Яго играет в его сознании, чтобы По иронии судьбы, его слабость создана для того, чтобы подорвать его силу. [ 148 ]
Хэзлитт также часто сосредотачивается на конкретных чертах, сравнивая персонажей не с персонажами из реальной жизни, а с персонажами других пьес Шекспира, сравнивая, например, Яго с Эдмундом в « Короле Лире» . Его интерес к искусству драмы становится еще более очевидным, когда он сравнивает Яго со злодейским персонажем Зангой в пьесе Эдварда Янга « Месть» (1721), которая все еще была популярной пьесой во времена Хэзлитта. [ 149 ]
Для Хэзлитта Отелло особенно примечателен взаимодействием между персонажами и тем, как Шекспир передает медленное и постепенное «движение страсти [...] попеременное господство разных страстей, [...] полное и непредвиденное изменение от самая нежная любовь и самое безграничное доверие, несмотря на муки ревности и безумие ненависти». [ 145 ] Он находит особенно примечательным постепенное изменение чувств Отелло к Дездемоне по мере того, как его разумом играет Яго. Отелло, по своей природе, не является жестоким человеком в повседневной жизни: [ 150 ] «Натура мавра благородна, доверчива, нежна и щедра; но кровь у него самая огненная; и, однажды пробудившись чувством своей несправедливости, его не останавливают никакие соображения раскаяния или жалости, пока он не отдаст [...] Третий акт «Отелло» - лучшее проявление [Шекспира] не знаний и страсти по отдельности, а их обоих вместе». [ 151 ] Хэзлитт продолжает:
Именно в том, чтобы довести благородную натуру [Отелло] до этой крайности посредством быстрых, но постепенных переходов, в том, чтобы поднять страсть до ее высоты от самых маленьких начал и, несмотря на все препятствия, в изображении угасающего конфликта между любовью и ненавистью, нежностью и обидой, ревности и раскаяния, в раскрытии силы и слабости нашей природы, в соединении возвышенности мысли с тоской величайшего горя, в приведении в движение различных импульсов, волнующих это наше смертное существо и, наконец, смешав их в той благородной волне глубокой и устойчивой страсти, стремительной, но величественной [...], которую Шекспир показал господству своего гения и своей власти над человеческим сердцем. [ 152 ]
Характер Дездемоны проявляется в ее привязанности к мужу. «На ее красоту и внешнее изящество можно только взглянуть косвенно». [ 152 ] Ее привязанность к Отелло начинается «немного фантастично и упрямо». [ 153 ] Но после этого «весь ее характер состоит в том, чтобы не иметь ни своей воли, ни одного подсказчика, кроме своего послушания». Даже «расточительность ее решений, настойчивость ее привязанностей, можно сказать, проистекают из мягкости ее натуры». [ 154 ]
Тремя годами ранее, в рецензии «Яго мистера Кина» в «Экзаминере » (7 августа 1814 г.), Хэзлитт осмелился предположить, что предположения Яго о похотливости в «Дездемоне», возможно, имели некоторую основу для истины, поскольку «чистота и грубость иногда «почти союзны, / И тонкие перегородки разделяют их границы » . [ 155 ] Хотя он и опустил эту мысль в «Персонажах пьес Шекспира» , это не помешало анонимному рецензенту в журнале «Blackwood’s Magazine» обвинить его в том, что он назвал Дездемону «непристойным» персонажем. В «Ответе на «Z » , написанном в 1818 году, но так и не опубликованном, Хэзлитт отвечает своему обвинителю: [ 156 ] «Неправда, что я намекал на то, что Дездемона была распутной женщиной, не более, чем на это намекал Шекспир, но я осмелился сказать, что он один мог придать женскому характеру дополнительную элегантность и даже деликатность из весьма невыгодных обстоятельств. в котором помещена Дездемона». [ 157 ]
Отношение Хэзлитта к персонажу Яго написано отчасти как ответ тем, кто «считал весь этот персонаж неестественным, потому что его злодейство не имеет достаточного мотива » . [ 158 ] Хэзлитт отвечает психологическим анализом, который оказал большое влияние и вызвал серьезные дискуссии: Шекспир «знал, что любовь к власти, которая является другим названием любви к озорству, естественна для человека. [...] Он знал бы это [. ..] просто от того, что я вижу, как дети шлепают по грязи или ради развлечения убивают мух, Яго на самом деле принадлежит к классу персонажей, общих для Шекспира и в то же время свойственных ему, чьи головы столь же проницательны и активны, как и их сердца; жесткий и бессердечный. Яго представляет собой [...] крайний пример такого рода: то есть болезненной интеллектуальной деятельности, с полнейшим безразличием к моральному добру или злу, или, скорее, с решительным предпочтением последнего, потому что оно легче падает Благодаря этой любимой склонности, он придает большую остроту его мыслям и размах его действиям». [ 159 ] Эта интерпретация позже вызвала восхищение и развитие шекспировского критика А.С. Брэдли . [ 160 ]
Джон Киннэрд позже прокомментировал слова Хэзлитта, назвав Яго «любителем трагедий в реальной жизни». [ 161 ] отмечая, что Брэдли и другие после него развили идею о том, что Хэзлитт видел в Яго самостоятельного художника, «драматического художника- манке ». [ 162 ] «Но форма, которую принимает воля Яго к «шалости», в первую очередь не эстетическая или творческая, а практическая и критическая. Каким бы солдатом он ни был, у него есть «жажда действий самого трудного и опасного рода», и у него нет ничего от художника. симпатия к удовольствиям; его «распущенная» склонность всегда «сатурнина» и проистекает из «желания найти худшую сторону каждой вещи и доказать, что он превосходит внешность» [...]». [ 163 ] Дэвид Бромвич позже предостерег от слишком далекого подхода к идее о том, что Яго - фигура художника в пьесе, представление самого Шекспира, поскольку «гений Яго [...] является противоположностью Шекспира. Он представляет все вещи в искажающей среде [ ...]. Особый гений Яго - это, «как его представил Хэзлитт, «буйство одной части ума Шекспира, а не аллегорическое изображение всего его». [ 164 ]
Буря
[ редактировать ]
«Буря» , как утверждает Хэзлитт, — одна из «самых оригинальных и совершенных» пьес Шекспира. [ 165 ] в некотором смысле похож на «Сон в летнюю ночь» , но как пьеса лучше, хотя и не так богат поэтическими отрывками. [ 166 ] «Буря» демонстрирует автора как мастера комедии и трагедии, полностью владеющего «всеми ресурсами страсти, остроумия, мысли и наблюдения». [ 167 ] И снова Хэзлитт уделяет здесь значительное место не только персонажам пьесы, но и характеру пьесы в целом. [ 117 ] Мир пьесы словно создан из ничего; [ 165 ] тем не менее, хотя он похож на сон и в значительной степени является продуктом воображения, его обстановка напоминает картину, которую мы, возможно, видели: «Очарованный остров Просперо [с его] воздушной музыкой, судно, колеблющееся в бурю, бурные волны, все иметь эффект пейзажного фона какой-нибудь прекрасной картины» [ 168 ] — его поэзия имеет музыку, вызывающую в сознании слушателя смысл — «песни [...], не передающие каких-либо отчетливых образов, кажутся вспоминающими все чувства, связанные с ними, как обрывки полузабытой музыки, слышанные неясно и вслух». интервалы" [ 169 ] - и его персонажи, многие из которых, как мы знаем, как Ариэль , не могли бы существовать на самом деле, нарисованы так, чтобы казаться «столь же правдивыми и естественными, как настоящие персонажи [Шекспира]». [ 170 ] Все настолько искусно объединено, что «та часть, которая является лишь фантастическим творением его ума, имеет одну и ту же осязаемую текстуру и «подобно» соединяется с остальным». [ 165 ]
Хэзлитт дает краткие одобрительные описания многих персонажей и их отношений. Например:
Ухаживание Фердинанда и Миранды — одна из главных прелестей этой пьесы. Это сама чистота любви. Мнимое вмешательство Просперо в него усиливает его интерес и соответствует характеру мага, чье чувство сверхъестественной силы делает его произвольным, раздражительным и нетерпеливым к сопротивлению. [ 166 ]
Цитируя речь старого советника Гонсало об идеальном государстве, которым он будет править, Хэзлитт отмечает, что здесь «Шекспир предвосхитил почти все аргументы об утопических схемах современной философии». [ 171 ]
С особым интересом он рассматривает характеры Калибана и Ариэля, указывая, что, поскольку они возникают в структуре пьесы, ни один из них не может существовать без другого, и ни один из них по отдельности не освещает сумму нашей природы лучше, чем оба вместе. Калибан груб, земной, [ 172 ] тогда как «Ариэль — это воображаемая сила, олицетворенная быстрота мысли». [ 173 ]
Шекспир как бы намеренно извлек из Калибана элементы всего неземного и утонченного, чтобы соединить их в неземной форме Ариэля. Ничто не было когда-либо более тонко задумано, чем этот контраст между материальным и духовным, грубым и тонким. [ 173 ]
Хэзлитта особенно интересовал Калибан, отчасти потому, что другие считали этого персонажа вульгарным или злым. Хоть он и «дикарь», «полуживотное, полудемон», [ 168 ] и «суть грубости», [ 172 ] Калибан ни в коей мере не «вульгарен». «Характер вырастает из почвы, где он укоренен, необузданный, неотесанный и дикий, не стесненный никакими подлостью обычая [...]. Пошлость — это не природная грубость, а условная грубость, усвоенная от других, вопреки, или без полного соответствия природной силе и характеру, поскольку мода — это банальная аффектация того, что элегантно и утонченно, без всякого ощущения сути этого». [ 172 ] Стефано и Тринкуло по сравнению с ним вульгарны, и «проводя [их] в камеру Просперо», понимая «природу», которой она окружена, «Калибан показывает превосходство природных способностей над большими знаниями и большей глупостью». [ 174 ]
Проливая ретроспективный свет на свой интерес к Калибану в «Персонажах пьес Шекспира» , в следующем году Хэзлитт в рецензии на «Лекции мистера Кольриджа» с негодованием ответил на то, что Кольридж назвал Калибана «злодеем», а также «якобинцем». [ 175 ] который хотел только распространить анархию. Хотя Хэзлитт говорит несколько иронично, он встает на защиту Калибана: «Калибан настолько далек от того, чтобы быть прототипом современного якобинизма, что он является строго законным сувереном острова». [ 176 ] Хэзлитт не обязательно считал, что Калибан заслуживает замены Просперо на посту правителя, но он показывает, что само существование Калибана поднимает вопросы о фундаментальной природе суверенитета, справедливости и самого общества. Как отметил Дэвид Бромвич, Кольридж нашел причины извиниться перед обществом в его нынешнем виде. Хэзлитт, с другой стороны, отказался принять чью-либо сторону, оставив открытыми вопросы, возникшие в пьесе. «Хэзлитту пришлось интерпретировать грубость Калибана и справедливость его протестов как одинаково непреодолимые». [ 177 ]
Двенадцатая ночь; или Что пожелаешь
[ редактировать ]В комментарии Хэзлитта к «Двенадцатой ночи» пьеса Шекспира используется для иллюстрации некоторых его общих идей о комедии, мыслей, которые он более подробно исследовал в более поздних работах, таких как « Лекции об английских писателях-комиксах» (1819). [ 178 ]

Никто, по словам Хэзлитта (выразившего свое несогласие с доктором Джонсоном), не превзошел Шекспира в трагедии; хотя его комедии могли быть первоклассными, другие писатели, такие как Мольер , Сервантес и Рабле , превзошли его в некоторых типах комедии. [ 179 ] Именно в комедии «Природа» Шекспир сыграл высшую роль. Это не комедия, высмеивающая «смехотворное», а, скорее, комедия «веселого смеха». [ 180 ] который мягко высмеивает человеческие слабости и предлагает нам разделить невинные удовольствия. Из комедий такого рода « Двенадцатая ночь » — «одна из самых восхитительных». [ 181 ] В отличие от «комедии искусственной жизни, остроумия, сатиры», [ 182 ] Более нежная комедия Шекспира «заставляет нас смеяться над глупостями человечества, а не презирать их [...]. Комический гений Шекспира напоминает пчелу скорее своей способностью извлекать сладости из сорняков или ядов, чем оставлять после себя жало». [ 181 ]
Помимо своих дальнейших общих замечаний, Хэзлитт с признательностью останавливается на ряде забавных сцен и поэтических отрывков, включая песни, все из которых показывают, что «комедия Шекспира носит пасторальный и поэтический характер. Безумие присуще почве [...] Абсурд есть все основания для этого; и у бессмыслицы есть место для процветания». [ 183 ] Персонажи самых разных типов приветствуются и вписываются в его схему: «один и тот же дом достаточно велик, чтобы вместить Мальволио , графиню , Марию, сэра Тоби и сэра Эндрю Аг-Чика ». [ 184 ] Он особенно восхищается персонажем Виолы , о которой Шекспир произносит много речей «страстной сладости». [ 185 ] Характеризуя пьесу в целом, цитируя в ней собственные слова автора — «Только Шекспир мог описать эффект своей собственной поэзии» — он размышляет о том, что поэзия пьесы приходит « в ухо, как сладкий юг / Который дышит». на банке фиалок,/Кража и благоухание » . [ 185 ]
Здесь Хэзлитт делает шаг назад, чтобы понаблюдать за своим персонажем, размышляя о том, что, если бы он сам был менее «угрюмым», ему вполне могли бы нравиться комедии так же, как и трагедии, или, по крайней мере, он так себя чувствует, «после прочтения [...] части этой пьесы». [ 186 ]
Как вам это понравится
[ редактировать ]Хотя Хэзлитт смотрел «Как вам это понравится» на сцене, он запомнил его с большой любовью, поскольку читал его так часто, что практически запомнил его. [ 187 ] В «Персонажах пьес Шекспира» он вообще не упоминает никаких сценических представлений, рассматривая пьесу как пьесу, предназначенную в первую очередь для чтения. Что ему особенно примечательно в ней, так это ее характер «пасторальной драмы», представляющей «идеальный» мир, то есть мир мысли и воображения, а не действия. И хотя это комедия, ее интерес проистекает не столько из того, что нас заставляют смеяться над какими-то конкретными человеческими глупостями, сколько, скорее, «больше из чувств и характеров, чем из действий или ситуаций. сделано, но то, что сказано, требует нашего внимания». [ 188 ]

«Сам воздух этого места, - писал Хэзлитт об Арденском лесу , - кажется, дышит духом философской поэзии; возбуждает мысли, трогает сердце жалостью, как сонный лес шумит под вздыхающую бурю». [ 189 ] и персонаж, который больше всего воплощает философский дух этого места, - это Жак, который «единственный чисто созерцательный персонаж Шекспира». [ 189 ] Среди влюбленных Хэзлитту особенно нравится характер Розалинды , «состоящий из спортивной веселости и природной нежности». [ 190 ] И пары, Тачстоун и Одри, Сильвиус и Фиби, занимают на картине свои разные места. [ 191 ] Другие персонажи, в том числе Орландо и герцог, также дадут свои комментарии. [ 189 ] В целом Хэзлитт считает эту пьесу одной из наиболее цитируемых и цитируемых из пьес Шекспира: «Вряд ли какая-либо из пьес Шекспира содержит большее количество отрывков, цитируемых в сборниках отрывков, или большее количество фраз». это вошло в поговорку». [ 192 ]
Концепция Хэзлитта о пьесе как о пьесе, в которой интерес должен возникать не из действия или ситуации, а, скорее, из ее созерцательной природы, оставалась жизненно важной, вплоть до двадцатого века. [ 193 ] и вот двадцать первый. [ 194 ]
Мера за меру
[ редактировать ]
«Меру за меру» часто считали « проблемной игрой ». Проблема Хэзлитта заключалась в том, что в нем почти нет персонажей, к которым можно было бы испытывать полную симпатию. «[T] здесь вообще недостаток страсти; привязанности стоят на месте; наши симпатии отражаются и побеждаются во всех направлениях». [ 195 ] Анджело , заместитель правителя Вены, прощен герцогом, но вызывает только ненависть Хэзлитта, поскольку «похоже, он питает гораздо большую страсть к лицемерию, чем к своей любовнице». [ 195 ] «Мы также не очарованы строгим целомудрием Изабеллы, хотя она и не могла поступить иначе, как поступила». [ 195 ] Брат Изабеллы Клаудио «единственный человек, который чувствует себя естественно», но даже он не проявляет успеха в своих просьбах о жизни в жертву девственности своей сестры. Не существует простого решения его тяжелого положения, и «он находится в бедственном положении, которое почти исключает желание его освобождения». [ 196 ] Более столетия спустя комментатор Р. У. Чемберс назвал Хэзлитта первым из длинного ряда известных шекспировских критиков, которые считали то же самое: [ 197 ] и он цитировал персонажей пьес Шекспира , чтобы обосновать свое утверждение (в качестве основы для аргументации своего собственного иного взгляда на пьесу), что Хэзлитт был одним из первых из десятков выдающихся критиков, которые не могли понять, как Мариана могла любить и защищать кого-то вроде Анджело. и вообще ко многому проявлял отвращение в «Мере за меру» . [ 198 ]
Однако, в отличие от Кольриджа, [ 198 ] и, несмотря на свои собственные сомнения, Хэзлитт нашел много поводов для восхищения в «Мере за меру» , «пьесе, столь же гениальной, сколь и мудрой». [ 195 ] Он подробно цитирует отрывки из «драматической красоты». [ 199 ] а также находит повод использовать эту пьесу как пример, подтверждающий его характеристику общей природы гения Шекспира и отношения между моралью и поэзией. «Шекспир был в каком-то смысле наименее моральным из всех писателей; ибо мораль (обычно так называемая) состоит из антипатий [...]». [ 200 ] Однако «в другом [смысле] он был величайшим из всех моралистов. Он был моралистом в том же смысле, в котором едина природа. Он учил тому, чему научился у нее. чувствуя это». [ 201 ]
Хотя Хэзлитт сделал рецензию на исполнение « Меры за меру» для «Ревизора» 11 февраля 1816 года, [ 202 ] и включил в эту главу несколько отрывков с изменениями, включая некоторые из своих общефилософских размышлений и упоминание некоторых мнений Шлегеля. [ 203 ] он ничего не говорит однако в «Персонажах пьес Шекспира» о каких-либо постановках этой пьесы.
Другие
[ редактировать ]Трагедии
[ редактировать ]Хэзлитт считал, что, поскольку трагедия наиболее глубоко затрагивает наши эмоции, это величайший вид драмы. [ 204 ] Из трагедий, основанных на греческой и римской истории, он поставил Юлия Цезаря ниже других римских трагедий, Кориолана , Антония и Клеопатры . [ 205 ] Но, как и везде, он выражает восхищение тонким различением характеров, изображением «нравов простого народа, а также ревности и горечи различных фракций» в «Юлии Цезаре » . [ 206 ]
В «Антонии и Клеопатре» «гений Шекспира распространил по всей пьесе богатство, подобное разливу Нила». [ 207 ] В целом, эта пьеса «представляет собой прекрасную картину римской гордости и восточного великолепия: и в борьбе между ними мировая империя кажется подвешенной, 'подобно перу лебединого пуха/, Которое стоит на волнах во время прилива, /И ни в какую сторону не склоняется . [ 208 ]
Тимон Афинский , по мнению Хэзлитта, «в такой же степени сатира, как и пьеса», [ 209 ] казалось ему, что «написана с таким же сильным чувством своего предмета, как любая другая пьеса Шекспира» и «является единственной пьесой нашего автора, в которой селезенка является преобладающим чувством ума». [ 209 ]
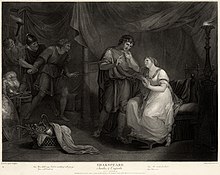
В центре внимания рассказа Хэзлитта о Троиле и Крессиде - сравнение характеристик в этой пьесе и в « поэме Чосера Троил и Крисида» (один из источников Шекспира). Персонажи Чосера полны и хорошо развиты; но Чосер раскрывал каждого персонажа отдельно, по одному. Шекспир показал персонажей такими, какими они видят себя, а также такими, какими их видят другие, и показал влияние каждого на других. Персонажи Шекспира были настолько своеобразны, что казалось, что каждый из них был выражен отдельной «способностью» его ума; и, по сути, эти способности можно рассматривать как проявление «чрезмерной общительности», примечательной тем, «как они сплетничали и сравнивали записи». [ 210 ] Критик двадцатого века Артур Истман считал, что, хотя эти замечания недостаточно отдают должное Чосеру, они особенно оригинально раскрывают «утонченный гений Шекспира». [ 211 ]
Для Хэзлитта суть «Ромео и Джульетты» — это шекспировское изображение любви, которая приходит с «созреванием юношеской крови»; [ 212 ] и с этой любовью воображение юных влюбленных побуждается сосредоточиться не столько на настоящем удовольствии, сколько на «всех удовольствиях, которых они не испытали. Все, что должно было произойти в жизни, принадлежало им. [...] Их надежды были на воздух, их желания — огонь». [ 213 ] Во многих прекрасных поэтических отрывках «чувства юности и весны [...] смешаны воедино, как дыхание распускающихся цветов». [ 214 ] Оценивая характер пьесы в целом, он констатирует: «Эта пьеса представляет собой прекрасный переворот хода человеческой жизни. В мыслях она занимает годы и охватывает круг чувств от детства до старости. " [ 215 ]
Истории
[ редактировать ]В комментарии Хэзлитта к «Королю Джону» , его последнем комментарии к историческим пьесам , он предлагает свой взгляд на исторические пьесы в целом: «Если мы хотим дать волю своему воображению, мы предпочли бы сделать это на воображаемую тему; если мы хотим найти предметы для проявления нашей жалости и террора, мы предпочитаем искать их в фиктивной опасности и фиктивном бедствии». [ 216 ]
Тем не менее, он находит много достоинств в исторических пьесах: здесь это слабый, колеблющийся, иногда презренный характер короля Иоанна ; [ 217 ] «комичный», но откровенный и благородный характер Филиппа Бастарда; [ 218 ] отчаяние и чрезмерная материнская нежность в Констанции; [ 219 ] и много красивых и трогательных отрывков. Хэзлитт также предлагает некоторые размышления о стихосложении Шекспира. Были некоторые разногласия по поводу того, действительно ли эта пьеса принадлежит Шекспиру. Он заключает, что этот стих показывает, что это действительно так, и это мнение поддержали более поздние критики. [ 220 ]
Хэзлитт отмечает, что «Ричард II» , менее известный, чем «Ричард III» , представляет собой более прекрасную пьесу. Стоит отметить обмен местами между королем и Болингброком, королем-узурпатором: «Ступеньки, с помощью которых Болингброк взбирается на трон, — это те же шаги, с помощью которых Ричард погружается в могилу» — [ 221 ] и он сравнивает нравы и политику той эпохи с политикой своей собственной. Среди различных поэтических отрывков он находит речь Джона Гонта, восхваляющую Англию, «одну из самых красноречивых, когда-либо написанных». [ 222 ]

Генрих V Хэзлитт считал пьесы Шекспира лишь второсортными, но при этом наполненными множеством прекрасной поэзии. Что касается самого короля, то он считал характер этой «театральной» пьесы [ 223 ] достаточно занимательно, пока не сравнишь короля Генриха с историческим Генрихом V , который был таким же варваром, как и любой из исторических абсолютных монархов. [ 224 ]
«Генрих VI» , три части, рассмотренные вместе в одной главе, по мнению Хэзлитта, не находятся на одном уровне с другими историческими пьесами, но в долгом сравнении короля Генриха VI с королем Ричардом II он находит повод усилить свою главную тему. тонкого различения внешне похожих персонажей. [ 225 ]
«Ричард III» для Хэзлитта создан прежде всего для игры, «настоящая пьеса; она принадлежит театру, а не чулану». [ 226 ] В нем доминирует персонаж короля Ричарда, которого Шекспир изображает как
высокий и высокий; столь же порывистый и властный; надменный, жестокий и тонкий; смелый и коварный; уверен в своей силе так же, как и в своей хитрости; высоко поднятый своим рождением, выше своими талантами и своими преступлениями; королевский узурпатор, княжеский лицемер, тиран и убийца из дома Плантагенетов. [ 227 ]
Хэзлитт комментирует усилия нескольких актеров, сыгравших эту роль, особенно Кина. Части его обзора первого выступления Кина в роли Ричарда, написанного для The Morning Chronicle от 15 февраля 1814 года, были включены в эту главу. [ 228 ]
ничего гениального, В отличие от доктора Джонсона, который не нашел в Генрихе VIII кроме изображения « кротких скорбей и добродетельных страданий » королевы Екатерины, [ 229 ] Хэзлитт находит в этой пьесе, хотя и не одной из величайших произведений Шекспира, «значительный интерес к более мягкому и вдумчивому составу, а также некоторые из самых ярких отрывков в произведениях автора». [ 230 ] Помимо изображения Кэтрин, Хэзлитту нравится изображение кардинала Уолси и самого короля Генриха, которое, хотя и «нарисовано с великой правдой и духом, [похоже] на очень неприятный портрет, нарисованный рукой мастера». [ 231 ] И «сцена казни [герцога] Бэкингема — одна из самых трогательных и естественных у Шекспира, к которой вряд ли найдется подход у любого другого автора». [ 232 ]
Комедии
[ редактировать ]Размышляя о «Двенадцатой ночи », Хэзлитт считал, что его собственное предпочтение трагедии могло быть отчасти связано с его собственным «сатурнианским» темпераментом, и утверждал, что, независимо от индивидуальных предпочтений, Шекспир был столь же искусен в комедии, как и в трагедии. [ 186 ] После этого признания у него было немало благодарных комментариев о комедиях.
Хэзлитт нашел истинное удовольствие в «Сне в летнюю ночь» . [ 233 ] особенно наслаждался его игриво-изобретательной поэзией и подробно цитировал несколько своих любимых отрывков. Он также считает, что это демонстрирует тонкую проницательность характеров, которую можно найти повсюду у Шекспира. Как и везде, он переходит границы пьесы и перечисляет тонкие различия даже между сказочными персонажами, в данном случае в обширном сравнении Пака в этой пьесе и Ариэль в «Буре» . [ 234 ]

Это одна из пьес, которую, по мнению Хэзлитта, невозможно должным образом представить на сцене. Его красота - это, прежде всего, красота поэзии: «Поэзия и сцена плохо сочетаются друг с другом. Идеалу не может быть места на сцене, которая представляет собой картину без перспективы. [...] Где все оставлено на усмотрение воображения (как так обстоит дело при чтении) каждое обстоятельство [...] имеет равные шансы быть учтенным и рассказывается в соответствии со смешанным впечатлением от всего, что было предложено». [ 235 ]
Хотя ранняя пьеса «Два джентльмена из Вероны» показалась Хэзлитту «не более чем первыми набросками комедии», он также нашел в ней «отрывки высокого поэтического духа и неподражаемой причудливости юмора». [ 236 ]
Хэзлитт называет «Зимнюю сказку» «одной из лучших пьес нашего автора» [ 237 ] и с восторгом вспоминает некоторых из своих любимых актеров, сыгравших эти роли, в том числе Сару Сиддонс и Джона Кембла. [ 238 ] Он отмечает острую психологию развития безумия короля Леонта . [ 239 ] привлекательное мошенничество Автолика, [ 237 ] и очарование Пердиты и Флоризеля , речей [ 240 ] после того, как он задался вопросом, как могло случиться, что Поуп усомнился в подлинности пьесы Шекспира. [ 241 ]
Хэзлитт считал пьесу «Все хорошо, что хорошо кончается» особенно «приятной» пьесой. [ 242 ] хотя и не как комедия, а как серьезная инсценировка оригинальной сказки Боккаччо . [ 243 ] Елена – благородный пример женственности. [ 244 ] а в комической части пьесы Хэзлитта особенно забавляет персонаж Пароля, «паразита и прихлебателя [графа] Бертрама, чья «глупость, хвастовство и трусость [... и] ложные претензии на храбрость и честь» разоблачаются в «очень забавном эпизоде». [ 245 ] Источник пьесы Шекспира заставляет Хэзлитта подробно отвлечься от творчества Боккаччо, который никогда не имел «справедливости [...], возданной ему миром». [ 246 ]
«Бесплодные усилия любви », думал Хэзлитт, «переносит нас как к нравам двора и причудам судов, так и к сценам природы или сказочной стране собственного воображения [Шекспира]. себе, чтобы подражать тону вежливой беседы, преобладавшей тогда среди справедливых, остроумных и ученых». [ 247 ] «Если бы нам пришлось расстаться с какой-нибудь из комедий автора, — пишет он, — то это была бы вот эта». [ 248 ] Однако он также упоминает множество забавных персонажей, драматических сцен и благородных стихотворных строк, с которыми не хотел бы расставаться, пространно цитируя длинные отрывки, сказанные как Бироном, так и поэтами. [ 249 ] и Розалиной. [ 250 ]
«Много шума из ничего» Хэзлитт счел «замечательной комедией», в которой комический баланс аккуратно сочетается с более серьезным сюжетом. [ 251 ] Он размышляет: «Возможно, эта средняя точка комедии никогда не была так хорошо затронута, в которой смехотворное смешивается с нежностью, а наши глупости, обращаясь против самих себя в поддержку наших привязанностей, не сохраняют ничего, кроме своей человечности». [ 252 ]
«Укрощение строптивой» Хэзлитт очень просто резюмирует как «почти единственную из комедий Шекспира, имеющую регулярный сюжет и совершенно моральную [...]. Она превосходно показывает, что своеволие можно победить только с помощью более сильная воля, и как одна степень нелепой извращенности может быть вытеснена другой, еще большей». [ 253 ]
Хотя в «Комедии ошибок» есть несколько отрывков, «которые несут на себе явную печать гениальности [Шекспира], Хэзлитт по большей части характеризует ее как «во многом заимствованную из Менехми Плавта и не являющуюся ее усовершенствованием». [ 254 ]
Хэзлитт заканчивает свой подробный отчет о пьесах главой «Сомнительные пьесы Шекспира», большая часть которой состоит из прямых цитат Шлегеля, чьи замечания Хэзлитт считает заслуживающими внимания, если он не всегда с ними согласен. Большинство пьес, ныне признанных Шекспиром или, по крайней мере, частично Шекспиром, были также приняты Хэзлиттом как его пьесы. Двумя заметными исключениями были Тит Андроник и Перикл, принц Тира . Что касается первого, Хэзлитт, тем не менее, достаточно уважал защиту Шлегеля, чтобы подробно процитировать последнее. [ 255 ] И он допускает, что некоторые части « Перикла» могли быть написаны Шекспиром, но, скорее всего, были «подражаниями» Шекспиру «каким-то современным поэтом». [ 256 ]
Хэзлитт почувствовал себя обязанным добавить к своим комментариям к пьесам несколько слов о недраматической поэзии Шекспира в главе «Стихи и сонеты». Хотя некоторые сонеты ему понравились, [ 257 ] по большей части Хэзлитт считал недраматическую поэзию Шекспира искусственной, механической и в целом «тяжелой, тяжелой работой». [ 258 ] В целом, как писал Хэзлитт, «наше поклонение Шекспиру [...] прекращается с его пьесами». [ 259 ]
Темы
[ редактировать ]Персонажи пьес Шекспира опровергают полуторавековую критику, которая считала Шекспира «дитя природы», лишенным искусства и полным недостатков. [ 260 ] Чтобы закрепить свою позицию, Хэзлитт приводит замечание поэта Александра Поупа — несмотря на то, что Поуп был одним из тех самых критиков — его объединяющую тему: «каждый персонаж Шекспира в такой же степени индивидуален, как и персонажи в самой жизни». [ 261 ] и он исследует шекспировское искусство, которое, наряду с наблюдением за природой, оживило этих персонажей. [ 146 ]

Большая часть книги синтезирует собственные взгляды Хэзлитта со взглядами его предшественников в шекспировской критике. Величайшим из этих критиков был Август Вильгельм Шлегель, современный немецкий литературовед и критик, который также сильно повлиял на Кольриджа. [ 262 ] и который, по мнению Хэзлитта, ценил Шекспира лучше, чем любой английский критик. [ 261 ] «Конечно, ни один писатель среди нас, — писал Хэзлитт, — не выказал ни такого восхищения его гением, ни такой же философской проницательности, указывая на его характерные достоинства». [ 263 ]
Хэзлитт также в общих чертах объединяет в своем изложении подход своих непосредственных британских предшественников, «характерных критиков», таких как Морис Морганн, который начал использовать психологический подход, сосредоточив внимание на том, как персонажи пьес ведут себя и мыслят. как люди, которых мы знаем в реальной жизни. [ 264 ]
В этом духе каждое из эссе Хэзлитта включает в себя многочисленные, зачастую очень личные комментарии о персонажах. Например, в рассказе о Цимбелине он заявляет: «Мы испытываем к Имогене почти такую же привязанность, как она питала к Постуму; и она заслуживает этого большего». [ 37 ] И, сравнивая Фальстафа с принцем Хэлом, он заявляет: «Фальстаф — лучший человек из двоих». [ 265 ] Комментируя «характер Гамлета», он, по сути, присоединяется к дискуссии среди своих современников, дополняя смесь подобных оценок Гете , [ 266 ] Шлегель, [ 267 ] и Кольридж [ 268 ] его наблюдение о том, что Гамлет «является персонажем, отмеченным не силой воли или даже страсти, а утонченностью мысли и чувств». [ 80 ]
Хотя внимание Хэзлитта к «персонажам» в такой манере не было оригинальным, [ 269 ] и позже подвергся критике, [ 270 ] он развивал этот подход, добавляя свои собственные концепции того, как Шекспир представил человеческую природу и опыт. [ 271 ]
Одна идея, развивающая первоначально заявленную тему, к которой Хэзлитт возвращается несколько раз — в «Макбете» , [ 127 ] Сон в летнюю ночь , [ 234 ] Генрих IV , [ 272 ] и в другом месте — заключается в том, что Шекспир не только создает весьма индивидуальные характеры. Больше, чем любой другой драматург, он создает персонажей, которые имеют схожие общие типы, но, тем не менее, как и в реальной жизни, отличаются тонкими чертами:
Шекспир был едва ли более замечателен силой и резким контрастом своих характеров, чем правдивостью и тонкостью, с которой он различал наиболее близкие друг к другу. Например, душа Отелло едва ли более отличается от души Яго, чем душа Дездемоны от души Эмилии; честолюбие Макбета так же отличается от честолюбия Ричарда III. как будто из-за кротости Дункана; настоящее безумие Лира так же отличается от притворного безумия Эдгара, как и от лепетания дурака [...]. [ 273 ]
С классической точки зрения, по крайней мере, согласно д-ру Джонсону, поэзия «является зеркалом природы». [ 274 ] Романтики стали смещать акцент на роль воображения. [ 275 ] Как и его современники-романтики, Хэзлитт сосредотачивается на том, как передать смысл пьесы, воображение Шекспира, [ 276 ] посредством поэзии стимулирует воображение читателя или аудитории. [ 277 ] Несколько раз Хэзлитт наблюдает, как Шекспир посредством этой образной конструкции, казалось, по очереди становился каждым персонажем. Например, в «Антонии и Клеопатре» он останавливается, чтобы наблюдать: «Персонажи дышат, двигаются и живут. Шекспир [...] становится ими, говорит и действует за них». [ 278 ] А в «Генрихе IV»: «Он, кажется, был всеми персонажами и во всех ситуациях, которые он описывает». [ 279 ]
Мы, как читатели или зрители, оцениваем персонажей силой нашего воображения, как бы участвующего в сцене, как если бы мы присутствовали во время такого события в реальной жизни. Комментируя сцену в «Юлии Цезаре» , где Цезарь признается Марку Антонию в своих опасениях по поводу Кассия, Хэзлитт пишет: «Мы едва ли знаем какой-либо отрывок, более выражающий гений Шекспира, чем этот. Как будто он действительно присутствовал при этом, знал разные характеры и то, что они думали друг о друге, и записал то, что он слышал и видел, их взгляды, слова и жесты, так, как они происходили». [ 280 ] В «Гамлете» он отмечает, что «персонажи думают, говорят и действуют так же, как они могли бы делать, если бы их предоставили полностью самим себе. [...] Вся пьеса представляет собой точную запись того, что, как предполагалось, могло произойти в суд Дании [...]». [ 83 ]
В «Троиле и Крессиде» он путем сравнения с методом изображения характеров Чосера подробно объясняет, как у Шекспира представление о «характере» не является фиксированным, и Шекспир показывает персонажей не только по их собственному поведению, но и по тому, как они рассматривают и реагируют на друг друга. [ 281 ] Точно так же внимание Шекспира было обращено не только на привычное внешнее поведение, но и на самые преходящие, мимолетные внутренние впечатления. «Шекспир показал [...] не только то, чем являются вещи сами по себе, но и какими бы они ни казались, их различные отражения, их бесконечные комбинации». [ 282 ]
Временами освещение Шекспиром внутренней жизни своих персонажей было настолько сильным, что Хэзлитт считал, что никакая сценическая постановка не сможет отдать должное замыслу Шекспира. В «Лире» он одобрительно цитирует довод своего друга Чарльза Лэмба о том, что пьесы Шекспира в целом непригодны для сцены. Постоянно возникает мысль, что «сцена вообще не лучшее место для изучения персонажей нашего автора». [ 283 ] И в другом месте: «Поэзия и сцена несовместимы друг с другом». [ 235 ] В таких высказываниях он приближался к позиции Лэмба (которому он посвятил «Персонажей пьес Шекспира» ), который считал, что ни одна сценическая постановка не может отдать должное шекспировской драме, что искусственность сцены воздвигает барьер между замыслом автора и зрительским замыслом. воображение. [ 284 ] Как выразился как Лэмбу, так и Хэзлитту критик Джон Махони, «спектакль Шекспира в театре всегда должен до некоторой степени разочаровывать, потому что малейшее отклонение от видения, вызванного воображением, так сразу обнаруживается и так быстро становится источником эстетического недовольство». [ 285 ]
В разряд непригодных для сцены особенно попадают некоторые пьесы, например «Сон в летнюю ночь» и «Гамлет» . Этот внутренний фокус настолько силен, особенно в величайших трагедиях, что Хэзлитт снова выходит за рамки идеи индивидуального характера и переходит к «логике страсти». [ 102 ] — мощные эмоции, переживаемые в интерактивном режиме, освещающие нашу общую человеческую природу. Эта идея развита в рассказах Хэзлитта о Короле Лире , Отелло и Макбете . [ 101 ]
По крайней мере частично объяснение того, почему и Лэмб, и Хэзлитт считали неадекватность шекспировских постановок, заключалось в том, что сами театры были огромными и яркими, а публика была шумной и невоспитанной. [ 286 ] и драматические представления в начале девятнадцатого века были сенсационными, нагруженными искусственным и эффектным реквизитом. [ 287 ] Кроме того, если не сесть в яму , то легко можно было не заметить тонкости мимики и голоса актеров. [ 288 ]
Несмотря на всю свою настойчивость в том, что пьесам Шекспира на сцене нельзя отдать должное, Хэзлитт часто делал исключения. Преданный любитель пьес с раннего возраста, а теперь драматический критик, он наслаждался многими сценическими постановками, свидетелем которых был. В некоторых случаях, как в случае с Эдмундом Кином (о котором он часто упоминает в этой книге, обычно с восхищением) и Сарой Сиддонс (он не мог «представить себе ничего более грандиозного», чем ее исполнение роли леди Макбет ), [ 289 ] их интерпретации ролей в шекспировской драме оставили неизгладимые впечатления, расширяя его представления о потенциале представленных персонажей. Например, в «Ромео и Джульетте» он заявляет: «Возможно, одно из лучших произведений актерского мастерства, которое когда-либо было видно на сцене, - это манера мистера Кина сыграть эту сцену [когда Ромео изгоняют] [...] Он действительно приближается к гению своего автора». [ 290 ]
Хэзлитт на протяжении всей своей книги, кажется, колеблется между этими двумя мнениями (что часто актеры предлагают лучшие интерпретации Шекспира и что ни один взгляд на Шекспира на сцене не может сравниться с богатым опытом чтения пьес), не признавая при этом очевидного противоречия. [ 8 ]
Некоторые пьесы он считал особенно подходящими для сцены, например «Зимнюю сказку », которую он объявляет «одной из лучших актерских игр нашего автора». [ 237 ] Здесь он вспоминает некоторые актерские триумфы, свидетелем которых он был давным-давно: «Миссис Сиддонс играла Гермиону, а в последней сцене изображала нарисованную статую вживую — с поистине монументальным достоинством и благородной страстью; мистер Кембл в «Леонтесе» возвысился до предела. в прекрасном классическом исступлении, а Баннистер в роли Автолика ревел от жалости так громко, как только мог это сделать крепкий нищий, который не чувствовал никакой боли, которую он подделывал, и был звуком ветра. и конечности». [ 238 ]
«Ричард III» для Хэзлитта был еще одной пьесой, «настоящей постановкой», и в этой главе «критикуют ее главным образом со ссылкой на то, как мы видели ее в исполнении». [ 226 ] а затем сравнивает интерпретации персонажа короля Ричарда различными актерами: «Если мистеру Кину не удастся полностью сконцентрировать все линии персонажа, как это нарисовано Шекспиром [...] [он] более утончен, чем Кук более смелый, разнообразный и оригинальный, чем Кембл в том же персонаже». [ 291 ]

Хэзлитт также возражает против того, как Ричарда III в то время часто монтировали для сцены. «Чтобы освободить место для [...] более чем ненужных дополнений» из других пьес, часто не Шекспира, «многие из наиболее ярких отрывков в настоящей пьесе были опущены из-за пижона и невежества критиков-буферистов. " [ 292 ] Рассматривая ее как сценическое представление истории, он находит, что эта пьеса повреждена этими манипуляциями, так как в оригинале Шекспира «аранжировка и развитие истории, а также взаимный контраст и сочетание действующих лиц в целом таковы, что тонко управляемый как развитие характеров или выражение страстей». [ 293 ] Он отмечает другой вид редактирования — который вскоре стал известен как « боудлеризация » — в обработке отрывка из «Ромео и Джульетты» , в котором откровенная речь Джульетты встревожила скромниц его времени. Он цитирует этот отрывок, отмечая, что «мы не сомневаемся, что он был исключен из «Семьи Шекспиров». [ 294 ]
Развитие сюжета и «дело сюжета» [ 44 ] рассматриваются в нескольких главах. «Шекспир преуспел в дебютах своих пьес: пьеса «Макбет» — самая яркая из всех». [ 118 ] Комментируя «развитие катастрофы» в «Цимбелине» , он пользуется случаем, чтобы отметить, что утверждение доктора Джонсона о том, что «Шекспир вообще невнимателен к завершению своих сюжетов», настолько далеко от истины, что в « Короле Лире» , «Ромео и Джульетта» , «Макбет» , «Отелло» и «Гамлет» , среди «других менее важных пьес [...] последний акт наполнен решающими событиями, вызванными естественными и яркими средствами». [ 44 ] Хэзлитт часто предлагает краткий набросок истории. [ 295 ] и остановимся, чтобы отметить особые преимущества техники Шекспира. Таким образом, он считает «всю сцену суда» в «Венецианском купце» «шедевром драматического мастерства». [ 296 ]
Иногда Хэзлитт также обсуждает пьесы с других точек зрения. Использование Шекспиром более ранних источников учитывается в «Кориолане». [ 297 ] и «Все хорошо, что хорошо кончается» [ 298 ] в частности. Неоднократно Хэзлитт сосредотачивается на сценах в том виде, в котором они были поставлены. По словам Артура Истмана, он «читает пьесы как режиссер, быстро улавливая сигналы движения, жестов, костюмов». [ 299 ] Отмечая «театральное чутье» Хэзлитта, Истман говорит, что «Хезлитт имеет в виду не просто физическое - это все взаимоотношения одного человека с другим, одного разума с другими разумами - присутствует на сцене как физическое, так и психологическое». [ 271 ]
В соответствии со Шлегелем, больше, чем с любым предыдущим англоязычным критиком (за исключением Кольриджа, который также следовал за Шлегелем), Хэзлитт нашел «единство» в пьесах Шекспира не в соблюдении традиционных классических единств времени, места и действия, а в их единство темы. [ 300 ] Наиболее полное развитие этой идеи он дает в главе об Антонии и Клеопатре :
Ревностное внимание, уделяемое единству времени и места, отняло в драме принцип перспективы и весь интерес, который объекты извлекают из расстояния, контраста, лишений, перемен судьбы, долголетия. заветная страсть; и противопоставляет наш взгляд на жизнь из странного и романтического сна, долгого, неясного и бесконечного, в остро оспариваемый трехчасовой вступительный спор о его достоинствах между различными кандидатами на театральные аплодисменты. [ 301 ]
При обсуждении «Макбета» важно именно единство характера Макбета. [ 302 ] Во многих главах он подчеркивает доминирующее настроение, объединяющую тему, «характер» пьесы в целом. [ 303 ] Опять же, в «Макбете» вся пьеса «построена на более сильном и систематическом принципе контраста, чем в любой другой пьесе Шекспира». [ 304 ] Он отмечает, что «некая нежная мрачность окутывает весь» « Цимбелин » . [ 31 ] «Ромео и Джульетта» показывает «весь ход человеческой жизни», в котором «одно поколение вытесняет со сцены другое». [ 215 ] Чтение «Сна в летнюю ночь » «все равно что бродить в роще при лунном свете: описания дышат сладостью, как ароматы, исходящие от цветочных клумб». [ 305 ]
Другая более ранняя критика Шекспира за то, что его произведения не были «моральными», все еще была жива во времена Хэзлитта. Кольридж часто подчеркивал безнравственность таких персонажей, как Фальстаф. По мнению Хэзлитта, это был совершенно неправильный подход к морали в драматической поэзии. [ 90 ] и время от времени он останавливается, чтобы прокомментировать мораль Шекспира. Рассматривая «Гамлета» , например, он заявляет, что о характере Гамлета не следует судить по обычным моральным правилам. «Этические определения «Шекспира» не демонстрируют унылого квакеризма морали». [ 88 ] В «Мере за меру» он отмечает, что мораль Шекспира следует оценивать как нравственность самой природы: «Он учил тому, чему научился у нее. Он показал величайшее знание человечества с величайшим сочувствием к нему». [ 201 ] «Талант Шекспира заключался в сочувствии человеческой природе во всех ее формах, степенях, понижениях и возвышениях». [ 200 ] и такое отношение можно считать аморальным только в том случае, если считать мораль «состоящей из антипатий». [ 306 ]
По главам разбросаны более общие критические рассуждения, например, о трагедии в эссе «Отелло», комедии в «Двенадцатой ночи» и о ценности поэзии для человеческой жизни вообще, в «Лире» и многих других. [ 307 ] Попутно Хэзлитт перемежает длинные цитаты из пьес, делясь с читателем поэтическими отрывками, которые он считает особенно превосходными. Эта практика напоминала распространенную в то время практику сбора длинных отрывков из пьес о «красавицах» Шекспира. [ 295 ] Хэзлитт, однако, также добавляет критические комментарии (хотя часто гораздо менее обширные, чем стало практикой в последующие годы): [ 308 ] с цитатами, иллюстрирующими отдельные моменты пьес, а также делящимися с читателями тем, что, по его мнению, заслуживает внимания. [ 308 ] Все это, сделанное так, как никто раньше, сделало «Персонажи пьес Шекспира» первым справочником для изучения и оценки всех пьес Шекспира. [ 309 ]
Критический ответ
[ редактировать ]1817–1830: Современный прием.
[ редактировать ]«Персонажи пьес Шекспира» — самая успешная книга Хэзлитта. Поскольку он распространил предварительные экземпляры перед публикацией, это было положительно отмечено еще до того, как оно официально появилось 9 июля 1817 года. Ли Хант с энтузиазмом заявил, что «наименьшей из всех похвал является утверждение, что оно неизбежно должно вытеснить догматическую и полуосведомленную критику». Джонсона». [ 310 ]

После публикации не вся реакция была такой положительной. консерватор язвительно Британский критик- заметил, что книга «наполнена скучными, банальными якобинскими декламациями». [ 311 ] и The Quarterly Review с той же политической предвзятостью упрекнули Хэзлитта за нелестное изображение короля Генриха VIII. [ 312 ] Но по большей части похвалы продолжались. Хант в более подробном обзоре в The Examiner аплодировал не только энтузиазму автора, «но и поразительной восприимчивости, с которой он меняет свой юмор и манеру в зависимости от характера пьесы, с которой сталкивается; подобно зрителю в театре, который сопровождает повороты лица актера своим собственным». [ 313 ] Джон Гамильтон Рейнольдс, рецензируя его в «Чемпионе» , зашел так далеко, что заявил, что «это единственное произведение, когда-либо написанное о Шекспире, которое можно считать достойным Шекспира». [ 314 ]
Первое издание было распродано за шесть недель. Всего несколько месяцев спустя был услышан голос Фрэнсиса Джеффри, весьма уважаемого редактора The Edinburgh Review . Джеффри начал с выражения оговорок: это не книга, дающая большие знания, и книга не столько критики, сколько книги признательности. И все же, признает Джеффри, «оценка» высочайшего уровня, и он «не [...] особенно склонен не соглашаться с «Хэзлиттом» после прочтения его красноречивого изложения» замечаний, которые он высказывает о Шекспире. «Книга [...] написана не столько для того, чтобы рассказать читателю, что г-н Х. знает о Шекспире или его произведениях, сколько для того, чтобы объяснить им, что он чувствует по отношению к ним — и почему он так чувствует — и думает, что все, кто исповедует любить поэзию следует так же». Хотя «Персонажи » не «демонстрируют исключительные познания в постановке [Шекспира], они, тем не менее, демонстрируют «весьма значительную оригинальность и гениальность». [ 315 ]
30 мая 1818 года вышло второе издание, на этот раз опубликованное Тейлором и Хесси. Поначалу это хорошо продавалось. Однако в то время литературная критика подвергалась исключительно сильному политическому влиянию. [ 316 ] В частности, самые недобросовестные из периодических изданий тори, не колеблясь, прибегали к откровенной лжи, чтобы дискредитировать приверженцев политических взглядов, которые они считали неприемлемыми. [ 317 ] Хэзлитт, никогда не скрывавший критики королей или министров правительства, вскоре стал мишенью. Прошло всего немногим больше недели, когда « Ежеквартальное обозрение » «поместило дьявольскую заметку о персонажах пьес Шекспира — возможно, ее редактором Уильямом Гиффордом ». [ 318 ] (На самом деле это мог быть некий Джон Рассел, писавший анонимно; но Хэзлитт возложил вину на Гиффорда, который отвечал за содержание журнала и, возможно, поощрял Рассела.) [ 317 ] Гиффорд, или Рассел, перейдя от литературной критики к убийству персонажей, писал:
Мы не снисходили бы до того, чтобы заметить бессмысленную и злую софистику этого писателя [...], если бы мы не считали его одним из представителей класса людей, которым литература больше, чем в любой прежний период, опозорена [...] ] Возможно, было бы неплохо показать, насколько мала часть таланта и литературы необходима для ведения подстрекательства. [Хэзлитт осмелился критиковать характер короля Генриха VIII.] Те немногие образцы его этики и его критики, которые мы выбрали, более чем достаточны, чтобы доказать, что знание г-ном Хэзлиттом Шекспира и английского языка находится точно на одном уровне с чистота его нравов и глубина его понимания. [ 319 ]
Продажи полностью иссякли. Хэзлитт немного неправильно понял хронологию, но в остальном не преувеличивал, когда писал в 1821 году:
Тейлор и Хесси рассказали мне, что они продали почти два издания «Персонажей пьес Шекспира» примерно за три месяца, но после выхода «Ежеквартального обзора» они так и не продали ни одного экземпляра. [ 320 ]

Нападки в периодических изданиях тори, вскоре распространившиеся и на другие произведения Хэзлитта, уничтожили не только продажи « Персонажей пьес Шекспира», но, по мнению большей части широкой публики, его репутацию как литературного критика. [ 321 ]
1830–1900: Под облаком.
[ редактировать ]Хотя влияние единственной полнометражной трактовки Шекспира Хэзлиттом несколько ослабло, оно не угасло полностью. Позже в этом столетии сын и внук Хэзлитта выпустили издания произведений Хэзлитта. Его разнообразные и знакомые эссе были прочитаны, и немногие проницательные хвалили Хэзлитта как стилиста. Как критик, хотя он и исчез из поля зрения общественности, еще более избранные понимали, насколько высокого места он заслуживает в рейтинге литературных критиков. [ 322 ] Уильям Мейкпис Теккерей , например, похвалил Хэзлитта в 1844 году как «одного из самых проницательных и ярких критиков, когда-либо живших». [ 323 ] Другим редким исключением был шотландский журналист Александр Айрлэнд , который в кратких мемуарах о Хэзлитте в 1889 году написал, что книга Хэзлитта о Шекспире, «хотя и претендует на драматическую критику, на самом деле представляет собой рассуждение о философии жизни и человеческой природы, более наводит на размышления, чем многие одобренные трактаты, специально посвященные этой теме». [ 324 ]
По большей части, хотя Хэзлитта продолжали читать и его влияние в определенной степени ощущалось, на протяжении большей части оставшейся части девятнадцатого века его нечасто цитировали как критика. [ 325 ]
1900–1950: Возрождение
[ редактировать ]Примерно на рубеже двадцатого века влияние персонажей стало проявляться более явно, особенно в исследованиях критика А.С. Брэдли, который одобрительно принял объяснение Хэзлитта о характере Яго. Примерно в это же время Джордж Сэйнтсбери , написавший всеобъемлющую историю английской критики (законченную в 1904 году), записал свое крайнее отвращение к персонажу Хэзлитта и, как заметила критик Элизабет Шнайдер, обнаружил, что его сочинения «наполнены огромным невежеством, ошибками, предрассудки и неприятный характер, доходящий почти до безумия». [ 326 ] Тем не менее, он также высоко оценил Хэзлитта как критика, одного из величайших критиков языка. Персонажей он поставил ниже, чем в некоторых других критических произведениях Хэзлитта; тем не менее, он допускал, что, помимо таких «выпадов», как его критика исторического короля Генриха V, [ 327 ] и его чрезмерная зависимость от цитат Шлегеля, « Персонажи пьес Шекспира», наполнены многим достойным восхищения, в частности, сравнением Хэзлиттом характеристик Чосера и Шекспира и его наблюдением о том, что Шекспир «не имеет предубеждений ни за, ни против своих персонажей». Сэйнтсбери находил критические суждения Хэзлитта, как правило, здравыми, и считал, что характеристики Фальстафа и Шейлока были «шедеврами». [ 328 ]
Даже несмотря на то, что критики «персонажей» начали впадать в немилость, а Хэзлитта, которого причисляли к ним, также отодвинули в сторону, некоторое влияние осталось. Общий подход Хэзлитта к пьесам Шекспира, в передаче преобладающего настроения, характера самой пьесы, оказал влияние на критиков позднего двадцатого века, таких как Дж. Уилсон Найт. [ 329 ] Другие крупные шекспировцы, такие как Джон Довер Уилсон, иногда одобрительно относились к одному из прозрений или примечательных отрывков Хэзлитта, таких как характеристика Фальстафа. [ 72 ]
1950–1970: Ревальвация
[ редактировать ]С тех пор шекспировская критика Хэзлитта продолжала находить некоторое признание, однако в отношении его персонажа все еще висело клеймо, и его критика часто оценивалась как чрезмерно эмоциональная и «импрессионистская». Это отношение менялось лишь постепенно. [ 330 ] В 1955 году Рене Веллек в своей истории литературной критики во всей западной культуре за предыдущие два столетия в значительной степени поддержал эти ранние взгляды. По его мнению, персонажи чрезмерно сосредотачиваются на персонажах Шекспира, и, что еще хуже, Хэзлитт «путает вымысел и реальность» и обсуждает вымышленных персонажей, как если бы они были реальными людьми. [ 331 ] Тем не менее, спустя полвека после Сэйнтсбери и следуя примеру Шнайдера, он также отмечает, что, несмотря на весь импрессионизм Хэзлитта, «у Хэзлитта больше теории, чем обычно думают». [ 332 ] Он также считал, что Хэзлитт демонстрирует значительную «психологическую проницательность» в объяснении определенных типов персонажей, таких как Яго, и что «очерк Яго, созданный Хэзлиттом, превосходит портрет Кольриджа». [ 333 ] Он также восхваляет свободу Хэзлитта в «Персонажах» и в других местах от «дефектов, которыми были заражены его ближайшие критические соперники, Джонсон и Кольридж: шовинизм, ханжество и елейные проповеди. [...] Он свободен от ханжества, которое пронизало в его дни Английская культура». [ 334 ]
Одновременно с этим Уолтер Джексон Бэйт , критик, специализирующийся на периоде английского романтизма, выразил одобрение шекспировской критике Хэзлитта, рассматриваемой в контексте критики других романтиков. «Как Кольридж [...] или [...] Китс, - писал Бейт, - Хэзлитт испытывал характерное романтическое удовольствие от способности Шекспира раскрыть характер в одном отрывке или даже в одной строке - в «вспышках страсти», которые предлагают «откровение всего контекста нашего существа » . [ 335 ]
Вскоре к книге Хэзлитта было привлечено больше внимания. Лайонел Триллинг был первым критиком, признавшим важность радикально новой идеи Хэзлитта о поэзии, выраженной в его эссе о Кориолане . [ 336 ] Гершель Бейкер в 1962 году отметил, что лучшие части книги Хэзлитта, такие как «захватывающие эссе об Отелло и Макбете », ставят «Хэзлитта на первое место среди тех, кто много писал о величайших из всех писателей». [ 337 ]
В 1968 году Артур М. Истман опубликовал ретроспективное исследование 350-летней шекспировской критики. В то время все еще казалось необходимым извиниться за включение Хэзлитта в число главных шекспировских критиков своего времени. Но в «Краткой истории шекспировской критики » Истман наконец приходит к выводу, что, хотя многое из того, что Хэзлитт говорит о Шекспире, не является оригинальным, это «достаточно хорошо сказано, чтобы найти место в истории». [ 299 ]
Однако прежде чем Истман закончит, он перечисляет несколько вещей, которые Хэзлитт сформулировал оригинально. Помимо таких запоминающихся выражений, как «Это мы — Гамлет», Хэзлитт, как ни один критик до него, был чрезвычайно внимателен ко «всем взаимоотношениям одного человека с другим, одного разума с другими разумами — присутствиям как физическим, так и психологическим на сцене». ." [ 271 ] Сосредоточив внимание на том, что Хэзлитт должен был сказать о сценическом мастерстве Шекспира и способах постановки его пьес, Истман, таким образом, спас его от позора, вызванного самым поверхностным ассоциированием с критиками «характеров». В отличие от своих современников Лэмба и Кольриджа, «Хэзлитт [...] привносит в Шекспира как представление драматического критика о пьесах как театре, так и ощущение скрытого критика, что театр разума намного превосходит сценический театр, который некоторые из пьесы могут быть поставлены только там». [ 338 ]
Истман также указывает на внимание Хэзлитта к основному единству пьес. Хэзлитт, возможно, не сделал этого так хорошо, как Кольридж (который, по мнению Истмана, лучше других предлагал пути поиска единства в пьесах Шекспира): «Однако демонстрация единства в «Цимбелине» , «Отелло» и «Короле Лире» заставляет нас увидеть, что иначе мы могли бы и не сделать этого». [ 339 ] Истман также спасает политические комментарии Хэзлитта, которые, какими бы резкими они ни были, «открывают такие вопросы» для всеобщего обсуждения, «так что политика пьес выходит на арену интерпретации новым и достойным образом». [ 340 ]
В целом, заключает Истман, несмотря на многочисленные недостатки книги, «Персонажи пьес Шекспира» были «лучшим справочником» своего столетия для изучения пьес Шекспира. [ 341 ]
1970–2000: Возрождение
[ редактировать ]Джону Киннэрду в его полнометражном исследовании Хэзлитта как мыслителя и критика в 1978 году оставалось примирить Хэзлитта как «характерного» критика с Хэзлиттом как драматическим критиком. Хэзлитт в некоторой степени был критиком персонажей; но он также был драматическим критиком, обращавшим внимание на постановку и драматическую форму. [ 342 ] И даже его критика персонажей вышла за рамки внимания к отдельным персонажам и создала «более широкое исследование способов драматического воображения ». [ 146 ] В ходе своего исследования Шекспира Хэзлитт, как указывает Киннэрд, также показывает, что именно «искусство» Шекспира позволяет ему изображать «природу», отвергая старое критическое представление о том, что Шекспир был «дитя природы», но неполноценным. в «искусстве». [ 146 ]

Киннэрд далее углубляется в идеи в «Персонажах пьес Шекспира» , особенно идеи «власти», присутствующие в пьесах Шекспира и исследованные Хэзлиттом, — не только сила физической силы, но и сила воображения в симпатии к физической силе, которая иногда может преодолеть нашу волю к добру. Он исследует рассказы Хэзлитта о трагедиях Шекспира — Макбете , Гамлете , Отелло , Короле Лире и особенно Кориолане — где он показывает, что Хэзлитт показывает, что наша любовь к власти в сочувствии тому, что может включать в себя зло, может преодолеть человеческое стремление к добру. Это, как указывает Киннэрд, имеет серьезные последствия при рассмотрении значения и цели трагической литературы в целом. [ 343 ]
Попутно Киннэрд отмечает влияние « Персонажей» на более позднюю критику Шекспира, в том числе на критику А.С. Брэдли, [ 162 ] Дж. Уилсон Найт, [ 344 ] и К. Л. Барбер. [ 345 ]
Хэзлитта, заключает Киннэрд, слишком часто неправильно понимали и отвергали как не более чем «характерного» критика. Но его вклад в изучение Шекспира был гораздо шире и глубже, и, несмотря на проблемы с некоторыми собственными теориями Хэзлитта, [ 346 ] Персонажи пьес Шекспира были «плодотворным» произведением. [ 22 ]
К этому времени возрождение интереса к Хэзлитту уже шло полным ходом. Всего несколько лет спустя, в 1983 году, в своем исследовании Хэзлитта как критика Дэвид Бромвич подробно рассматривает некоторые вопросы, связанные с персонажами пьес Шекспира . Вопреки некоторым утверждениям об обратном в более ранних исследованиях Хэзлитта, Бромвич приходит к выводу, что Хэзлитт мало что заимствовал у Кольриджа, [ 347 ] и в качестве доказательства он представляет несколько противоречий в их критических взглядах, особенно в отношении Шекспира. В расширенном обсуждении критического подхода Хэзлитта к персонажу Яго в «Отелло » [ 348 ] Шейлока в «Венецианском купце » [ 349 ] Калибана в «Буре» , [ 350 ] о Гамлете , [ 87 ] и, наконец, о Кориолане , [ 351 ] он использует контраст между критикой Кольриджа и Хэзлитта, чтобы подчеркнуть существенную оригинальность критической позиции Хэзлитта, и отмечает, что взгляды Хэзлитта часто представляют собой воодушевляющую альтернативу взглядам Кольриджа. [ 90 ] Он также углубляется в проблему влияния Хэзлитта на Китса, частично посредством «Персонажей» , особенно главы о Короле Лире . [ 352 ] и он находит в комментариях Хэзлитта к Лиру интересные контрасты и сходства с критическими взглядами Вордсворта и Шелли. [ 112 ] Опираясь на аргументы, выдвинутые Киннэрдом, Бромвич далее бросает вызов «редуктивному» представлению о том, что «Персонажи » были просто произведением критики «персонажей». [ 353 ]
2000 и позже
[ редактировать ]Благодаря ускоренному возрождению интереса к Хэзлитту к концу двадцатого века, наследие персонажей пьес Шекспира также ценится все больше. В 1994 году Гарольд Блум, выражая свою признательность рассказам Хэзлитта о Кориолане и Эдмунде в «Короле Лире» , поставил Хэзлитта на второе место после доктора Джонсона как англоязычного литературного критика. [ 354 ] Он повторил и подкрепил эту оценку в своем издании «Отелло» 2008 года . [ 355 ] Другие новые издания Шекспира также опираются на интерпретации его пьес Хэзлиттом. [ 356 ] В 2000 году Джонатан Арак в «Кембриджской истории литературной критики» назвал Хэзлитта, Шлегеля и Кольриджа выдающимися шекспировскими критиками своего времени и отметил его исследование Шекспира как одну из «вех, которые до сих пор служат отправной точкой для свежего мышления почти два столетия». позже." [ 357 ] В 2006 году, после полного восстановления Хэзлитта в должности главного шекспировского критика, философ Колин Макгинн основал целую книгу о пьесах Шекспира на идее Хэзлитта о том, что Шекспир был «философским» поэтом. [ 358 ]
Примечания
[ редактировать ]- ^ Джонс 1989, стр. 133–34.
- ^ Маклин 1944, с. 300.
- ^ Уордл 1971, с. 142; Джонс 1989, с. 134.
- ^ См . «Вид на английскую сцену » в Hazlitt 1930, vol. 5, стр. 179–90, 200–24.
- ^ Маклин 1944, стр. 301–2; Джонс 1989, стр. 133–35.
- ^ Грейлинг 2000, с. 166.
- ^ Маклин 1944, с. 302.
- ^ Перейти обратно: а б с Киннэрд 1978, с. 166.
- ^ Уордл 1971, стр. 147–48.
- ^ Уордл 1971, с. 197.
- ^ Перейти обратно: а б Ву 2008, с. 184.
- ^ Хэзлитт 1930, том 20, стр. 407.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 20, с. 408.
- ^ Это было завершено к 20 апреля. Уордл 1971, с. 197. См. также Maclean 1944, p. 352; Ву 2008, с. 184.
- ^ Перейти обратно: а б Ву 2008, с. 211.
- ^ Уордл 1971, с. 224.
- ^ Ву 2008, с. 212.
- ^ Уордл 1971, с. 226.
- ^ Уордл 1971, стр. 197–204; Хэзлитт 1818, стр. 335–45.
- ^ Уордл 1971, с. 204.
- ^ Перейти обратно: а б с Киннэрд 1978, стр. 175–76.
- ^ Перейти обратно: а б с Киннэрд 1978, с. 173.
- ↑ Как заметил критик Джон Киннэрд, «только три из первых четырнадцати эссе книги посвящены нетрагическим пьесам». Киннэрд 1978, с. 174.
- ^ Перейти обратно: а б Киннэрд 1978, стр. 174.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 177.
- ^ Цитируется по Hazlitt 1818, стр. viii.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. xvi–xvii.
- ^ Хэзлитт 1818, с. xvi.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 12–13.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 173–95, 398.
- ^ Перейти обратно: а б с д Хэзлитт 1818, с. 3.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 7.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 5.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 8.
- ^ Здесь Хэзлитт цитирует Шекспира. Хэзлитт 1818, с. 5.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 6.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 4.
- ^ Хэзлитт 1930, стр. 83–89.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 10–11.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 8–9.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 9.
- ↑ Хэзлитт снова поднимает этот вопрос, обсуждая Антония и Клеопатру . Хэзлитт 1818, с. 100.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 1.
- ^ Перейти обратно: а б с д Хэзлитт 1818, с. 2.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 10.
- ↑ Как отмечает Джон Киннэрд, который считает, что в этом Хэзлитт предвосхитил критический метод Дж. Уилсона Найта , писавшего о Шекспире более века спустя. См. Киннэрд 1978, стр. 183, 400.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 69.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 75–82.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 69. Столетие спустя А.С. Брэдли увидел в наблюдении Хэзлитта предварительное начало целой линии шекспировской критики. Брэдли 1929, с. 79.
- ^ Перейти обратно: а б с Киннэрд 1978, стр. 110–11.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 70.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 70–71.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 71.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 111–12; см. также Полин 1998, стр. 91–92.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 5, с. 6.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 5, с. 7; Киннэрд 1978, стр. 111–12. «Власть» — центральное понятие в мысли Хэзлитта; для дальнейшего изучения того, что это значило для него, см. Натараджан, стр. 27–31.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 74–75.
- ^ Полин, 1998, с. 47 и далее.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 112–13.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 72–73.
- ^ Бромвич 1999, стр. 231–32.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 188.
- ^ Истман 1968, с. 58.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 398.
- ^ Морганн тоже; эксцессы школы принадлежали в первую очередь некоторым более поздним ее членам. Истман 1968, с. 58.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 189.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 189–90.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 190–91.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 192–99.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 199–201.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 201–2.
- ^ Перейти обратно: а б Уилсон 1943, с. 31.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 239.
- ^ Блум 2017, с. 18; Хэзлитт 1818, с. 278.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 328.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 113.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 103.
- ^ Перейти обратно: а б с д Хэзлитт 1818, с. 104.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 105.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 106.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 107.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 109.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 105–6.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 111.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 112.
- ^ Кольридж 1987, с. 458.
- ^ Перейти обратно: а б Бромвич 1999, стр. 267–70.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 109–10.
- ^ Хеллер 1990, стр. 110–11.
- ^ Перейти обратно: а б с Бромвич 1999, с. 270.
- ^ Киннэрд 1978, с. 194.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 193–94.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 4, с. 398; том. 5, стр. 185–86.
- ^ Лэмб 1811, стр. 308–9.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 153.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 190–91; Бромвич 1999, стр. 194–95; Бэйт 1963, стр. 233–63.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 153–54.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 154.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 155.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 155–56.
- ^ Перейти обратно: а б Киннэрд 1978, с. 185.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 157.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 158.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 171.
- ↑ Это часть теории трагедии, которую он разрабатывал. См. Kinnaird 1978, стр. 190–91.
- ^ Лэмб 1811, с. 309.
- ^ Киннэрд 1978, с. 191.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 5, с. 55.
- ^ Бэйт 1963, с. 262. См. также Eastman 1968, с. 103, о том, что Хэзлитт имел в виду под «иероглифом (ал)».
- ^ Бэйт 1963, стр. 233–63.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 177; Бромвич 1999, стр. 194, 336.
- ^ Перейти обратно: а б с Бромвич 1999, стр. 194–95.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 170; Бромвич 1999, стр. 194–95.
- ^ Бромвич 1999, с. 336.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 17.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 24.
- ^ Перейти обратно: а б с Киннэрд 1978, с. 183.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 16.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 18.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 28.
- ^ «Макбет мистера Кина», Чемпион , 13 ноября 1814 г., в Hazlitt 1930, vol. 5, стр. 204–7.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 26–27.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 19.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 20–21.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 184.
- ^ Перейти обратно: а б Киннэрд 1978, с. 181.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 26.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 21–22.
- ^ Хэзлитт 1930, с. 207.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 30.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 30–31.
- ^ Перейти обратно: а б Бромвич 1999, стр. 402–4.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 276–77.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 269. См. также примечание П. П. Хоу в Hazlitt 1930, vol. 4, с. 405.
- ^ Бромвич 1999, стр. 4–5.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 269–70.
- ^ Бромвич 1999, стр. 403–5.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 273–74.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 274–75.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 272–73.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 275.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 42.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 4. См. также Киннэрд 1978, с. 174.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 43.
- ^ Перейти обратно: а б с д Хэзлитт 1818, с. 45.
- ^ Перейти обратно: а б с д Киннэрд 1978, с. 176.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 185, 189.
- ^ Киннэрд 1978, с. 186.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 60.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 186–87.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 45–46.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 46.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 51.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 52.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 5, с. 217.
- ↑ Рецензент в статье «Перекрестный допрос Хэзлитта» назвал себя «Старым другом с новым лицом». Хэзлитт считал, что он был тем же человеком, который в других местах подписывался «Z». Вероятно, это был Джон Гибсон Локхарт. См. Hazlitt 1930, vol. 9, с. 249.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 9, с. 9. Киннэрд предполагает, что Хэзлитт не более чем намекает на такую интерпретацию характера Дездемоны из-за этого обвинения. Но, как уже показал П. П. Хоу (Hazlitt 1930, т. 9, стр. 249), нападки Блэквуда , опубликованные в августе 1818 г., появились лишь после того, как в мае «Херсонажи» вышли во втором издании.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 54.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 54–55.
- ^ «Суть персонажа была описана [...] в некоторых из лучших строк, когда-либо написанных Хэзлиттом [...]». Брэдли 1904, с. 170. Позже Киннэрд обнаружил некоторые заметные различия между их интерпретациями. См. Kinnaird 1978, стр. 187–88.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 55.
- ^ Перейти обратно: а б Киннэрд 1978, с. 187.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 187–88, цитируя Хэзлитта 1818, с. 57–58.
- ^ Бромвич 1999, стр. 138.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 116.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 123.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 115.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 117.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 121–22.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 115–16.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 124.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 118.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 121.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 120.
- ^ Кольридж 1987, с. 124.
- ^ Желтый карлик , 14 февраля 1818 г., в Hazlitt 1930, vol. 19, с. 207. Защита Калибана в этом направлении также появилась в эссе «Что такое народ?», «Чемпион » (октябрь 1817 г.), в Hazlitt 1930, vol. 7, с. 263, и в «О пошлости и нежности», Table-Talk (1821–22), в Hazlitt 1930, vol. 8, с. 161.
- ^ Бромвич 1999, стр. 270–73.
- ↑ Сильные и слабые стороны теории комедии Хэзлитта подробно обсуждаются в главе «Комедия и роман», Киннэрд, стр. 233–263.
- ^ Киннэрд 1978, с. 406.
- ^ Киннэрд 1978, с. 233.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 255.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 256.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 257.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 257–58.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 260.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 261–62.
- ↑ Как он рассказал два года спустя в статье об этой пьесе в « Новой английской драме» Оксберри . См. Хэзлитт, том. 9, стр. 90–91.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 305.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 306.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 307.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 308.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 309.
- ^ Гилман 1963, с. XXII.
- ^ Дусинберре 2006, с. 117.
- ^ Перейти обратно: а б с д Хэзлитт 1818, с. 320.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 321.
- ^ Чемберс, с. 290.
- ^ Перейти обратно: а б Чемберс, с. 296.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 323–26.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 322.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 323.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 5, стр. 281–84.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 5, с. 415.
- ↑ Джон Киннэрд заметил, что, за некоторыми исключениями, Хэзлитт первым прокомментировал трагедии Шекспира и осветил их более тщательно, чем другие пьесы. См. Киннэрд 1978, с. 174.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 33.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 34.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 102.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 95–96.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 61.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 92.
- ^ Истман 1968, с. 106.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 140.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 137.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 142.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 141.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 243.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 244–45.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 251–52.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 250.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 252–54.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 179.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 183.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 206.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 203–6.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 220–25.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 226.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 227.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 5, стр. 180–82.
- ^ Роли 1908, с. 152; Хэзлитт 1818, с. 238.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 237.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 238–40.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 238.
- ↑ Его глава называется «Сон в летнюю ночь» и почти полностью состоит из его эссе «Сон в летнюю ночь» из журнала «The Examiner » от 26 ноября 1815 года и заключительного абзаца из журнала «Examiner» от 21 января 1816 года. См. Хэзлитта. 1930, с. 399.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 128–29.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. 133.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 265.
- ^ Перейти обратно: а б с Хэзлитт 1818, с. 280.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, стр. 280–81.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 278–79.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 281–85.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 278.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 287.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 290.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 287–88.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 289–90.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 290–92.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 294.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 293.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 294–95.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 296–97.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 298.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 303.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 312; см. также Смит 2003, с. 19.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 331.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 335–38.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 345.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 350–51.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 348.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 346.
- ^ Истман 1968, стр. 4, 9, 26.
- ^ Перейти обратно: а б Хэзлитт 1818, с. viii.
- ^ Истман 1968, с. 64.
- ^ Хэзлитт 1818, с. ix.
- ^ Истман 1968, стр. 52–53.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 202.
- ^ Истман 1968, с. 81.
- ^ Истман 1968, с. 48.
- ^ Истман 1968, с. 44; Бромвич 1999, стр. 268–69.
- ^ Истман 1968, с. 101.
- ^ Уордл 1971, с. 200; Киннэрд 1978, стр. 173, 398.
- ^ Перейти обратно: а б с Истман 1968, с. 104.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 198.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 217–18.
- ^ Истман 1968, стр. 4, 21.
- ^ Бэйт 1970, с. 283.
- ^ Часто работает неосознанно. См. Махони 1981, с. 54.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 177; Киннэрд 1978, с. 176.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 96.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 201.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 37.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 92; Истман 1968, с. 106.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 91.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 277.
- ^ Хеллер 1990, с. 125.
- ^ Махони, с. 54.
- ^ «Все еще существовал обычай аплодировать или шипеть после каждой сцены [...]» Kinnaird 1978, стр. 168.
- ^ Киннэрд 1978, с. 169.
- ^ Киннэрд 1978, с. 168.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 21.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 150.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 228.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 232.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 231.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 145.
- ^ Перейти обратно: а б Истман 1968, с. 107.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 272.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 77–82.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 290–91.
- ^ Перейти обратно: а б Истман 1968, с. 103.
- ^ Взгляд доктора Джонсона на единства уже двигался в том же направлении. Истман 1968, стр. 30–32, 40–42.
- ^ Хэзлитт 1818, стр. 100–1.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 26; Киннэрд 1978, стр. 181–82.
- ^ Истман 1968, стр. 107; Киннэрд 1978, стр. 183.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 23.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 130.
- ^ Хэзлитт 1818, с. 322. См. также Mahoney 1981, p. 107: Хэзлитт «постоянно подчеркивал, что большинство писателей-моралистов не претендуют на внушение какой-либо морали и что открытая проповедь в искусстве непоправимо ослабляет это искусство».
- ^ Истман 1968, стр. 105–6.
- ^ Перейти обратно: а б Уордл 1971, с. 200.
- ^ Истман 1968, с. 109; Уордл 171, с. 204.
- ^ В уведомлении о предварительной публикации в The Examiner от 20 июня. Цитируется по Wardle 1971, с. 203.
- ^ Цитируется по Wu 2008, с. 212. См. также «Британский критик» , 1818, с. 19.
- ^ Ву 2008, с. 212; «Обзор персонажей пьес Шекспира Уильяма Хэзлитта» . Ежеквартальный обзор . 18 : 458–466. Январь 1818 года. В печатном томе месяц указан как май 1818 года, но на самом деле месяц был январь 1818 года. См. Howe 1922, p. 261.
- ^ Ли Хант, « Персонажи пьес Шекспира» Уильяма Хэзлитта», The Examiner (26 октября 1817 г.) в Hunt 1949, стр. 169.
- ^ Цитируется по Howe 1922, p. 245.
- ^ Джеффри 1817, с. 472; Уордл 1971, стр. 203–4.
- ↑ Самая предвзятая критика была со стороны консерваторов, поскольку правительство осуществляло «преднамеренное манипулирование прессой консерваторов». Джонс 1989, с. 296.
- ^ Перейти обратно: а б Грейлинг 2000, стр. 234–35.
- ^ По словам биографа Дункана Ву. Ву 2008, с. 246.
- ^ Цитируется по Grayling 2000, стр. 234.
- ^ Хэзлитт 1930, том. 8, с. 99. Внук Хэзлитта сообщил в мемуарах своего деда 1867 года, что Хэзлитт предоставил другу более подробный отчет: «Моя книга хорошо продавалась [...] до тех пор, пока не вышла эта рецензия. Я только что подготовил второе издание [... ] но затем Ежеквартальный журнал сообщил публике, что я дурак и тупица, и более того, что я злонамеренный человек, и публика, полагая, что Гиффорд знает лучше, призналась, что это был большой осел; доволен там, где его не должно быть, и продажа совсем прекратилась». Хэзлитт 1867, с. 229.
- ^ Киннэрд 1978, с. 364.
- ^ П. П. Хоу подводит итог влиянию Хэзлитта во второй половине века в Howe 1922, стр. 422–23.
- ^ Теккерей 1904, том. 25, с. 350, цитируется по Kinnaird 1978, p. 365.
- ^ Ирландия 1889, с. XXV.
- ^ Шнайдер 1952, с. 1.
- ^ Шнайдер 1952, с. 99.
- ^ Сэйнтсбери 1904, с. 258.
- ^ Сэйнтсбери 1904, стр. 258–59.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 183, 400.
- ^ В 1980 году Майкл Степпат все еще утверждал, что «подход Хэзлитта в значительной степени импрессионистский и эмоционально вызывающий воспоминания, а не аналитический». Степпат, с. 52.
- ^ Веллек 1955, стр. 198, 205.
- ^ Веллек 1955, с. 198.
- ^ Веллек 1955, с. 206.
- ^ Веллек 1955, с. 211.
- ^ Бэйт 1970, с. 289.
- ^ Как отметил Киннэрд 1978, с. 112. Но потребовалось еще одно поколение, чтобы мышление Хэзлитта стало более широко оценено.
- ^ Бейкер 1962, с. 383. Цитируется по Heller 1990, p. 99.
- ^ Истман 1968, с. 115.
- ^ Истман 1968, с. 111.
- ^ Истман 1968, с. 113.
- ^ Истман 1968, с. 109.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 175.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 181–95.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 400.
- ↑ В этом последнем случае Киннэрд, обсуждая подход Хэзлитта к комедиям, а не к трагедиям, отмечает просто общее предвосхищение манеры « Праздничной комедии Шекспира» Барбера 1959 года . Киннэрд 1978, с. 239.
- ^ Киннэрд 1978, стр. 194–95.
- ^ Бромвич 1999, стр. 230–31.
- ^ Бромвич 1999, стр. 134–39.
- ^ Бромвич 1999, стр. 402–5.
- ^ Бромвич 1999, стр. 271–74.
- ^ Бромвич 1999, стр. 314–20.
- ^ Бромвич 1999, с. 374.
- ^ Бромвич 1999, с. 134.
- ^ Блум 1994, стр. 34, 72, 197–98.
- ^ Блум 2008, с. 102.
- ↑ Например, в книге Ардена Шекспира « Как вам это понравится » 2006 года редактор Джульет Дюсенбер приводит взгляд Хэзлитта на пьесу в поддержку положений, которые она высказала во вступлении. Дусинберре 2006, с. 117.
- ^ Автомобиль 2000, с. 272.
- ^ См., например, McGinn 2006, с. 1.
Ссылки
[ редактировать ]- [Анонимный]. «Статья IX. - Персонажи пьес Шекспира . Уильям Хэзлитт. 8vo. Лондон. 1817», The Quarterly Review . Том XVIII (октябрь 1817 г. и май 1818 г.), Лондон: Джон Мюррей, 1818 г., стр. 458–66.
- [Анонимный]. «Персонажи пьес Шекспира по Хэзлитту» (рецензия), The British Critic . Том IX (июль – декабрь 1818 г.), стр. 15–22.
- Арак, Джонатан. «Влияние Шекспира», Кембриджская история литературной критики: Том 5: Романтизм , под редакцией Маршалла Брауна. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000, стр. 272–95.
- Бейкер, Гершель. Уильям Хэзлитт . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1962.
- Бейт, Уолтер Джексон. Критика: основные тексты; Расширенное издание . Нью-Йорк: Харкорт, Брейс, Йованович, Инк., 1952, 1970.
- Бейт, Уолтер Джексон. Джон Китс . Кембридж, Массачусетс: Belknap Press издательства Гарвардского университета, 1963.
- Блум, Гарольд. Фальстаф . Нью-Йорк: Скрибнер, 2017.
- Блум, Гарольд. Введение. Шекспир Блума сквозь века: Отелло . Нью-Йорк: Книги Галочки, 2008.
- Блум, Гарольд. Западный канон: книги и школа веков . Нью-Йорк: Harcourt Brace & Company, 1994.
- Брэдли, AC «Кориолан: лекция Британской академии 1912 года», в сборнике . Лондон: Макмиллан, 1929.
- Брэдли, AC Шекспировская трагедия . Кливленд и Нью-Йорк: The World Publishing Company, 1955 (первоначально опубликовано в 1904 году).
- Бромвич, Дэвид. Хэзлитт: Разум критика . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1999 (первоначально опубликовано в 1983 году).
- Чемберс, Непобедимый разум человека Р.В.: исследования английских писателей, от Беды до А.Э. Хаусмана и В.П. Кера . Лондон: Джонатан Кейп, 1939.
- Кольридж, Сэмюэл Тейлор. Собрание сочинений Сэмюэля Тейлора Кольриджа – Лекции 1818–1819: О литературе II . Лондон: Рутледж, 1987.
- Дюсенбер, Джульетта. «Введение», «Арден Шекспир, как вам это понравится» . Под редакцией Джульетты Дюсенберр. Лондон: Арден Шекспир, 2006.
- Истман, Артур М. Краткая история шекспировской критики . Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1968.
- Гилман, Альберт. «Введение», The Signet Классический Шекспир, как вам это понравится . Под редакцией Альберта Гилмана. Нью-Йорк: Новая американская библиотека, 1963.
- Грейлинг, AC Ссора века: жизнь и времена Уильяма Хэзлитта . Лондон: Вайденфельд и Николсон, 2000.
- Хэзлитт, Уильям. Персонажи пьес Шекспира . Второе издание. Лондон: Тейлор и Хесси, 1818 г.
- Хэзлитт, Уильям. Полное собрание сочинений Уильяма Хэзлитта . Под редакцией П. П. Хоу. Лондон: JM Dent & Sons, 1930.
- Хэзлитт, Уильям. Критика и драматические очерки английской сцены . Лондон: Дж. Рутледж, 1854.
- Хэзлитт, В. Кэрью. Мемуары Уильяма Хэзлитта , том 1. Лондон: Ричард Бентли, 1867.
- Хеллер, Джанет Рут. Кольридж, Лэмб, Хэзлитт и драматург . Колумбия: Университет Миссури Press, 1990.
- Хоу, П. П. Жизнь Уильяма Хэзлитта . Лондон: Хэмиш Гамильтон, 1922, 1947 (переиздан в мягкой обложке издательством Penguin Books, 1949; ссылки даны по этому изданию).
- Хант, Ли. Драматическая критика Ли Ханта, 1808–1831 гг . Под редакцией Кэролайн Уошберн Хаутченс и Лоуренса Хьюстона Хаутченса. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета, 1949.
- Хант, Ли. « Персонажи пьес Шекспира» Уильяма Хэзлитта», The Examiner (26 октября 1817 г.).
- Ирландия, Александр. Уильям Хэзлитт: эссеист и критик; Отрывки из его сочинений; С мемуарами биографическими и критическими . Лондон и Нью-Йорк: Фредерик Уорн и компания, 1889.
- [Джеффри, Фрэнсис]. «Статья IX. Персонажи пьес Шекспира. Уильям Хэзлитт». «Эдинбургское обозрение» , № LVI (август 1817 г.), стр. 472–88.
- Джонс, Стэнли. Хэзлитт: Жизнь от Уинтерслоу до Фрит-стрит . Оксфорд и Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1989.
- Киннэрд, Джон. Уильям Хэзлитт: критик власти . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета, 1978.
- Лэмб, Чарльз. «Театралия. № 1. О Гаррике и актерском мастерстве; и пьесы Шекспира, рассмотренные с точки зрения их пригодности для сценического представления», The Reflector: Ежеквартальный журнал, по предметам философии, политики и свободных искусств , том . 2 (март – декабрь 1811 г.), стр. 298–313.
- Маклин, Кэтрин Макдональд. Рожденный под Сатурном: биография Уильяма Хэзлитта . Нью-Йорк: Компания Macmillan, 1944.
- Махони, Джон Л. Логика страсти: литературная критика Уильяма Хэзлитта . Нью-Йорк: Издательство Фордхэмского университета, 1981.
- Макгинн, Колин. Философия Шекспира: раскрытие смысла пьес . Нью-Йорк: Harper Perennial, 2006.
- Натараджан, Уттара. Хэзлитт и широта разума: критика, мораль и метафизика власти . Оксфорд: Кларендон Пресс, 1998.
- Полин, Том. Утренняя звезда свободы: радикальный стиль Уильяма Хэзлитта . Лондон: Фабер и Фабер, 1998.
- Рэли, Уолтер, Джонсон о Шекспире . Лондон: Генри Фроуд, 1908.
- Шнайдер, Элизабет. Эстетика Уильяма Хэзлитта . Филадельфия: Издательство Пенсильванского университета, 1933; Второе издание, 1952 г.
- Смит, Эмма. Комедии Шекспира . Оксфорд: Блэквелл, 2003.
- Степпат, Майкл. Критическая рецепция шекспировской пьесы «Антоний и Клеопатра» с 1607 по 1905 год . Амстердам: Грюнер, 1980.
- Теккерей, Уильям Мейкпис. Полное собрание сочинений. Нью-Йорк: Харпер, 1904.
- Уордл, Ральф М. Хэзлитт . Линкольн: Университет Небраски Press, 1971.
- Веллек, Рене. История современной критики: 1750–1950: эпоха романтизма . Нью-Хейвен и Лондон: издательство Йельского университета, 1955.
- Уилсон, Джон Довер. Судьба Фальстафа . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1943.
- Уу, Дункан. Уильям Хэзлитт: Первый современный человек . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2008.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Хэзлитт, Уильям. Персонажи пьес Шекспира . Лондон: Р. Хантер, К. и Дж. Оллиер, 1817 г. (переиздано издательством Cambridge University Press , 2009 г.; ISBN 978-1-108-00529-6 ).
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Первое издание « Персонажи пьес Шекспира» в Google Книгах.
 «Персонажи пьес Шекспира» Общедоступная аудиокнига на LibriVox
«Персонажи пьес Шекспира» Общедоступная аудиокнига на LibriVox - Обзор Фрэнсиса Джеффри в Edinburgh Review