Аскетическое богословие
Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют достаточные соответствующие встроенные цитаты . ( июнь 2013 г. ) |
Возможно, эту статью придется переписать, Википедии чтобы она соответствовала стандартам качества . ( май 2018 г. ) |
| Часть серии о |
| Христианский мистицизм |
|---|
 |
Аскетическое богословие — это организованное изучение или изложение духовных учений, содержащихся в христианском Писании и отцах церкви , которые помогают верующим более совершенно следовать за Христом и достичь христианского совершенства . [ нужна ссылка ] Обычно считается, что христианский аскетизм подразумевает самоотречение ради духовных целей. Термин аскетическое богословие используется главным образом в римско-католическом богословии ; Восточно-православное богословие имеет свои собственные термины и определения (см. ниже), а другие религиозные традиции понимают следование и соответствие Богу и Христу иначе, чем православие или католицизм .
Этимология
[ редактировать ]Слово аскетизм происходит от греческого слова ἄσκησις аскесис . [1] имеется в виду практика . Английский термин аскеза означает «практика самодисциплины». [2]
Основные понятия
[ редактировать ]- Догматическое богословие обращается к тому, что религия утверждает как истину. Оно относится к аскетическому богословию , отвечая на вопрос: чему мы следуем? Что мы знаем о Боге, нашей природе и нашем искуплении? В основе аскетического богословия лежит догматическое богословие. Например, если бы религия не учила, что мы обладаем падшей природой, аскетическое богословие было бы основано на ошибочном предположении и тогда могло бы быть непродуктивным по сравнению с другими подходами к Богу.
- Моральное богословие рассматривает то, как мы должны вести себя. Это подробно изложенное поведенческое измерение. Здесь развиваются смыслы Декалога , Нагорной проповеди и других заповедей веры. Они особенно важны для руководства верующими на первых этапах молитвенной жизни и для уверенности в том, что они находятся на правильном пути: если человек считает, что растет в святости, но при этом нарушает основные заповеди веры, он не понимает процесс. Таким образом, моральное богословие направляет аскета, который стремится жить по моральным истинам, основанным на догмах религии, а также стремится выйти за рамки моральных требований.
- Мистическое богословие
В различных теологиях, касающихся следования за Христом, обычно упоминается душа , которую христианское богословие утверждает как вечное. Именно душа продвигается к Богу, именно душа призвана Богом. Мистическое богословие обращается к тем аспектам союза души с Богом, которые не производятся человеческими усилиями или действиями. На ранних стадиях молитвенной жизни случаются засухи , то есть моменты, когда ревность к молитве как бы ослабевает. На более поздних стадиях переживаются пассивные испытания, такие как темная ночь души (Св. Иоанн Креста). Говорят, что в этих явлениях Бог очищает душу, заставляя ее (в католическом богословии душа женского пола) продолжать жить на основе чистой веры, а не каких-либо ощутимых чувств, возникающих в результате молитвы. Эти и другие переживания изучаются в мистическом богословии. Христианская догма не учит, что мистические явления необходимы для того, чтобы получить место на Небесах.
- Совершенство – христианский долг
Чтобы получить место на небесах, необходимо в момент смерти находиться «в состоянии благодати». Состояние благодати означает, что человек искренне сожалеет о совершенных грехах – желательно, потому что они оскорбляют Бога, а не просто из-за страха перед адом – и что он не совершил тяжкого греха с момента последнего извинения или исповеди . Учитывая, что человек не знает часа своей смерти, и предполагая, что он имеет любящее расположение к Богу, он побуждается активно жить так, чтобы уменьшать грех и увеличивать скорбь о грехе и любовь к Богу. Вполне вероятно, что без таких усилий человек встретит момент смерти без соответствующей скорби и любви, просто по привычке. Именно в этом смысле совершенство считается обязанностью христиан. Священное Писание поощряет совершенство, [3] и ценность милосердия или любви будет противоречить минималистскому пониманию христианской жизни, как и свидетельство отцов церкви.
- Ключевые духовные враги (мир, плоть, дьявол)
Согласно религии, мир сам по себе не является злом, поскольку ничто, созданное Богом, не является злом. Проблема в том, что в нашей падшей природе мы неправильно воспринимаем вещи, и наши желания не соответствуют истине. Например, мир может быть источником освящения, но желать угодить миру и следовать указаниям мира, а не Бога — значит отвлекать себя от Божьей любви. Одной из милостей , к которым стремятся во время молитвы Розария , является презрение к миру , которое не отражает желание причинить миру вред, а скорее подтверждает веру в то, что это падший мир и что любить Бога — значит быть готовым к многому. лучший мир грядет. Плоть наша также не зла, но, не будучи вполне соединены с Богом, — которым мы после грехопадения не являемся, — мы не разумеем даров плоти и отвлекаемся на них; религия учит, что мы склонны делать идолов из наших ощущений и желаний. Дьявол ; злой, но не был сотворен таковым он такое же существо, как и мы, и не может контролировать нашу волю, но очень умен и хитер. Говорят, что он ненавидит физическое творение и желает его разрушения. Христианство не дает полного описания дьявола, известного как Сатана , но признает, что он пытается увести нас от нашей цели соединения с Богом. При конфирмации в Церковь оглашенных спрашивают: «Отвергаете ли вы помпезность и дела сатаны?» На протяжении всего духовного пути, даже после достижения высочайшего возможного для человека соединения, мир, плоть и диавол остаются источниками искушений и рассеяний, и всегда возможно грехопадение.
- Роль добрых дел
- Католическое богословие подвергалось критике за акцент на добрых делах или совершении поступков, которые искренне помогают другим в соответствии с явленным добром, но на самом деле добрые дела — это просто результат веры и любви, а не средство «купить свое». путь в рай». Веру можно сравнить с корнями растения, любовь — со стеблем, а плод — это доброе дело, которое естественным образом вытекает из него. В этом смысле поступок хорош , если он (а) совершается в состоянии благодати, т. е. не совершив тяжкого греха без покаяния, и (б) совершается с любовью к Богу как главной целью. Обычные действия повседневной жизни освящают, если они совершаются в этом контексте.
- Роль таинств
Таинства (католическая церковь) , согласно догматическому богословию, одновременно символизируют и даруют благодать. Два таинства, с которыми верующие обычно сталкиваются, — это Евхаристия и исповедь . Благодать — довольно сложная тема; см. ссылки ниже. Евхаристия дает реальный и преобразующий союз с Богом; см., например, Иоанна 6:58. [4] Оно одновременно духовно, реально и преобразующе. Для обсуждения духовного значения Евхаристии см. исторические корни католического евхаристического богословия . Исповедь очищает, если кающийся благожелателен, т. е. сожалеет о том, что оскорбил Бога. Считается необходимым совершить это очистительное действие перед принятием Евхаристии. По мере того, как человек продвигается к единению с Богом, становится очевидным все больше и больше проблем в душе. Привычки, которые на первый взгляд не казались греховными, внезапно оказываются вредными для благотворительности. После признания возникают новые проблемы. Таким образом кающийся приступает к программе очищения, развивая большую чувствительность к тому, что наиболее способствует христианской любви.
католицизм
[ редактировать ]
Аскезу как отрасль богословия можно кратко определить как научное изложение христианского аскетизма. Ее определяли как богословскую «науку о духовной жизни», «далеко отстающую как от догмы, так и от нравственности», опирающуюся на истины веры и стремящуюся к христианскому совершенству как «логический результат догмы, особенно фундаментальный догмат о Воплощении», полезный как для верующих, так и для мирских апостольств . [5] Аскетизм ( аскесис, аскеин ), взятый в буквальном значении, означает шлифовку, сглаживание или утончение. Греки использовали это слово для обозначения упражнений спортсменов , развивающих дремлющие в теле силы и тренирующих его до полной естественной красоты. Целью этих гимнастических упражнений было вручение лаврового венка победителю публичных игр. Жизнь христианина есть, как уверяет Христос, борьба за Царство Небесное (Мф. 11:12). Чтобы дать своим читателям наглядный урок этой духовной битвы и нравственного подвига, св. Павел, обучавшийся по греческому образцу, использовал образ греческого пятиборья (1 Коринфянам 9:24). Упражнения, которые следует выполнять в этом бою, имеют тенденцию развивать и укреплять нравственную стойкость, а их целью является христианское совершенство, ведущее к конечной цели человека, соединению с Богом (называемым Мистическим Телом Иисуса Христа Бога ). Человеческая природа, ослабленная первородным грехом и всегда склоняющаяся к злу, может достичь этой цели иначе, как ценой преодоления благодатью Божией многих и серьезных препятствий.
Нравственная борьба тогда состоит прежде всего в нападении и устранении препятствий, то есть злых похотей (похоти плоти, похоти очей и гордыни жизни), последствия которых первородного греха служат для испытания и испытания человека (Трид. , Sess. V, De peccato originali). Эту первую обязанность апостол Павел называет отвержением «ветхого человека» (Ефесянам 4:22). Вторая обязанность, по его словам, — «облечься в нового человека» по образу Божию (Ефесянам 4:24). Новый человек — это Христос. Долг христианина — стремиться уподобиться Христу, который есть «путь и истина и жизнь» (Иоанна 14:6), но это стремление основано на сверхъестественном порядке и, следовательно, не может быть осуществлено без Божественная благодать. Его основание заложено в крещении, которое принимает христиан как детей Божьих через наделение освящающей благодатью. С этого момента оно должно быть усовершенствовано сверхъестественными добродетелями, дарами Святого Духа и действительной благодатью.
Так как аскеза есть систематический трактат о стремлении к христианскому совершенству, то ее можно определить как научное руководство к стяжанию христианского совершенства, которое состоит в выражении в себе с помощью Божественной благодати образа Христова, практикуя христианские добродетели и применяя предоставленные средства для преодоления препятствий. Давайте подробнее рассмотрим различные элементы этого определения.
Природа христианского совершенства
[ редактировать ]
Католики должны отвергнуть концепцию протестантов, которые воображают, что христианское совершенство, как его понимают католики, есть, по существу, негативный аскетизм (ср. Себерг у Герцога-Хаука, «Realencyklopädie für prot. Theologie», III, 138), и что правильное представление аскетизм был открыт реформаторами. Не может быть сомнения в католической позиции, ясно выраженной св. Фомой и св. Бонавентурой , которые не уставали повторять, что отстаиваемый ими идеал аскетизма был идеалом католического прошлого, отцов, Самого Христа, решительно заявляя, что телесный аскетизм имеет не абсолютное, а лишь относительное значение. Сент-Томас называет это «средством для достижения цели», которое следует использовать с осторожностью. Св. Бонавентура говорит, что телесные аскезы «подготавливают, воспитывают и сохраняют совершенство» («Apolog. pauperum», V, c. viii). В доказательство он показывает, что придание абсолютного значения телесному аскетизму привело бы к манихейству . Он также указывает на Христа, идеал христианского совершенства, который был менее строгим в посте, чем Иоанну Крестителю , и основателям религиозных орденов, которые предписывали своим общинам меньше аскетических упражнений, чем они сами практиковали (ср. Дж. Зан, "Vollkommenheitsideal" в "Моральной проблеме", Фрайбург, 1911, стр. 126 кв.). С другой стороны, католики не отрицают важности аскетических практик для обретения христианского совершенства. Учитывая действительное состояние человеческой природы, они объявляют их необходимыми для устранения препятствий и для освобождения моральных сил человека, утверждая тем самым аскетизму положительный характер. Такое же значение придается тем упражнениям, которые сдерживают и направляют силы души. Следовательно, католики действительно выполняют и всегда выполняли то, что Гарнак выдвигает как требование Евангелия и то, что он якобы тщетно искал среди католиков; ибо они «ведут битву против маммоны, заботы и эгоизма и практикуют то милосердие, которое любит служить и жертвовать собой» (Гарнак, «Сущность христианства»). Таким образом, католический идеал никоим образом не ограничивается отрицательным элементом аскетизма, а имеет положительную природу.

Сущность христианского совершенства – любовь. Св. Фома (Opusc. de perfectione christ., c. ii) называет совершенным то, что соответствует его цели ( quod attingit ad Finem Ejus ). Так как целью человека является Бог, то то, что объединяет его даже на земле, наиболее тесно с Богом – это любовь (1 Коринфянам 6:17; 1 Иоанна 4:16). Все остальные добродетели подчинены любви или ее естественным предпосылкам, как вера и надежда; Любовь охватывает всю душу человека (разум, волю), освящает ее и вливает в нее новую жизнь. Любовь живет во всем, и все вещи живут в любви и через нее. Любовь придает всему правильную меру и направляет все до последней цели. «Любовь, таким образом, является принципом единства, как бы разнообразны ни были отдельные состояния, призвания и труды. Провинций много, но они составляют одно царство. Органов много, но организм один» (Цан, lc, стр. . 146). Поэтому любовь по праву называется «узами совершенства» (Колоссянам 3:14) и исполнением закона (Римлянам 13:8). Католические писатели-аскеты всегда учили, что христианское совершенство состоит в любви. Нескольких свидетельств может быть достаточно. Пишу коринфянам: Климент Римский говорит (1 Коринфянам 49:1): «Любовь сделала всех избранных совершенными; без любви ничто не угодно Богу» (en te agape ateleiothesan pantes oi eklektoi tou theou dicha agapes ouden euareston estin to theo; Funk , «Патр. ап.», с. 163). В Послании Варнавы утверждается, что путь света — это «любовь Того, Кто нас создал» (agapeseis ton se poiesanta; Funk, lc, с. 91), «любовь к ближнему, не щадящая даже нашей собственной жизни». (agapeseis ton plesion sou Hyper ten psychen sou), и утверждает, что совершенство есть не что иное, как «любовь и радость о добрых делах, свидетельствующих о справедливости» (agape euphrosyns kai agalliaseos ergon dikaiosynes martyria). Св. Игнатий никогда не устает в своих письмах предлагать веру как свет и любовь как путь, причем любовь есть конец и цель веры («Ad Ephes.», ix, xiv; «Ad Philad.», ix; «Ad Smyrn»). .», ви). Согласно « Дидахе », любовь к Богу и ближнему есть начало «пути жизни» (в. I), а в «Послании к Диогнету» деятельная любовь названа плодом веры во Христа. «Пастырь» Ермы признает тот же идеал, когда он определяет «жизнь для Бога» (zoe to theo) как сумму человеческого существования. К этим апостольским отцам можно добавить св. Амвросия (De fuga sæculi, c. iv, 17; c. VI, 35–36) и св. Августина, который считает совершенную справедливость равнозначной совершенной любви. И св. Фома, и св. Бонавентура говорят на одном и том же языке, и писатели-аскеты всех последующих столетий верно следовали их авторитетным стопам (ср. Лутц, "Die kirchl. Lehre von den evang. Räten", Падерборн, 1907, стр. 26–99).
Однако, хотя совершенство по сути своей является любовью, не любая степень любви достаточна для того, чтобы составить моральное совершенство. Этическое совершенство христианина состоит в совершенстве любви, которое требует такого расположения, «чтобы мы могли действовать быстро и легко, даже если многие препятствия преграждают наш путь» (Муц, «Христл. Аскетик», 2-е изд., Падерборн, 1909). Но такое расположение души предполагает, что страсти укрощены; ибо это результат кропотливой борьбы, в которой нравственные добродетели, закаленные любовью, оттесняют и подавляют злые наклонности и привычки, вытесняя их добрыми наклонностями и привычками. Только тогда действительно становится «как бы второй натурой человека — доказывать свою любовь к Богу в известные времена и при известных обстоятельствах, проявлять добродетель и, насколько это позволяет человеческая природа, беречь свою душу даже от малейшего пятна» (Муц, LC, стр. 43). По слабости человеческой природы и наличию злого похоти (fomes peccati: Trid., Sess. VI, can. xxiii) совершенство, исключающее всякий недостаток, не может быть достигнуто в этой жизни без особой привилегии (ср. Притчи 20:9; Экклезиаст 7:21; Иакова 3:2). Равно и совершенство по эту сторону могилы никогда не достигнет такой степени, чтобы дальнейший рост был невозможен, что ясно из ума Церкви и природы нашего теперешнего существования (status vioe); другими словами, наше совершенство всегда будет относительным. Как говорит Сенбернар: «Неослабевающее рвение к прогрессу и постоянная борьба за совершенство сами по себе являются совершенством» (Indefessus proficiendi studium et iugis conatus ad perfectionem, perfectio reputatur; «Ep. ccliv ad Abbatem Guarinum»). Поскольку совершенство состоит в любви, оно не является привилегией одного конкретного состояния, но может быть достигнуто и фактически достигалось в каждом состоянии жизни (ср. Христианское и религиозное совершенство ). Следовательно, было бы неправильно отождествлять совершенство с так называемым состоянием совершенства и соблюдением евангельских советов . Как справедливо замечает св. Фома, есть совершенные люди вне религиозных орденов и несовершенные люди внутри них (Summa theol., II-II, Q. clxxxiv, a. 4). Правда, условия для реализации идеала христианской жизни, вообще говоря, более благоприятны в религиозном государстве, чем в светских занятиях. Но не все призваны к религиозной жизни, и не все находят в ней свое удовлетворение. Подводя итог, цель одна, средства разные. Это достаточно отвечает на возражение Гарнака («Сущность христианства») о том, что Церковь считает совершенное подражание Христу возможным только для монахов, в то время как жизнь христианина в мире она считает едва достаточной для достижения последней цели.

Идеал, которому должен соответствовать христианин и к которому он должен стремиться всеми своими силами, как естественными, так и сверхъестественными, — это Иисус Христос. Вся его жизнь должна быть настолько проникнута Христом, чтобы он стал христианином в полном смысле этого слова («доколе не оформится в вас Христос»; Гал. 4:19). То, что Христос является высшим образцом и образцом христианской жизни, следует из Писания, например, из Иоанна, 13, 15 и 1 Петра, 2, 21, где прямо рекомендуется подражание Христу, и из Иоанна, 8, 12, где Христос называется «светом мира». См. также Рим., VIII, 29, Гал., II, 20, Фил., III, 8 и Евр., I, 3, где Апостол превозносит превосходное познание Иисуса Христа, ради которого он претерпел утрату всего вещи, считая их как навоз, чтобы приобрести Христа. Из многочисленных свидетельств отцов цитируем лишь св. Августина: «Finis ergo noster perfectio nostra esse debet; perfectio nostra Christus» (PL, XXXVI, 628; ср. также «В Псалме», 26, 2, в PL, XXXVI, 662). Во Христе нет тени, ничего одностороннего. Его Божественность гарантирует чистоту модели; Его человечность, которой Он стал подобен нам, делает модель привлекательной. Но этот образ Христа, не испорченный ни добавлением, ни упущением, можно найти только в Католической Церкви и, благодаря ее неиспорченности, всегда будет существовать там в своем идеальном состоянии. По той же причине только Церковь может дать нам гарантию того, что идеал христианской жизни всегда останется чистым и незамутненным и не будет отождествляться с каким-то особым состоянием или с подчиненной добродетелью (ср.: Зан, lc, с. 124). Непредвзятое исследование доказывает, что идеал католической жизни сохранялся во всей своей чистоте на протяжении веков и что Церковь всегда исправляла те ложные прикосновения, которыми отдельные люди могли попытаться исказить ее незапятнанную красоту. Индивидуальные черты и свежие краски для очертания живой картины Христа черпаются из источников Откровения и вероучительных решений Церкви. Они говорят нам о внутренней святости Христа (Иоанна 1:14; Колоссянам 2:9; Евреям 1:9 и т. д.). Его жизнь, исполненная благодати, полноту которой мы все получили (Иоанна 1:16), Его молитвенная жизнь (Марка 1:21, 35; 3:1; Луки 5:16; 6:12; 9:18 и т. д.). .), Его преданность Своему Небесному Отцу (Мф. 11:26; Ин. 4:34; 5:30; 8:26, 29), Его общение с людьми (Мф. 9:10; ср. 1 Кор. 9:22), Его дух бескорыстия и жертвенности, Его терпение и кротость и, наконец, Его аскетизм, проявляющийся в Его постах (Мф. 4:2; 6:18).
Опасности
[ редактировать ]Вторая задача аскетического богословия — указать на опасности, которые могут помешать достижению христианского совершенства, и указать средства, с помощью которых их можно успешно избежать. Первая опасность, на которую следует обратить внимание, — это злое похоть. Вторая опасность заключается в соблазнах видимого творения, которые занимают сердце человека, исключая высшее благо ; к тому же классу принадлежат искушения греховного, развращенного мира (1 Иоанна 5:19): те люди, которые пропагандируют порочные и безбожные учения и тем самым затемняют или отрицают возвышенное предназначение человека, или которые, извращая этические концепции и подавая плохой пример придать ложную тенденцию чувственности человека. В-третьих, подвижник знакомит не только со злобой диавола, чтобы не стать жертвой его хитрых козней, но и с немощью его, чтобы не унывать. Наконец, не довольствуясь указанием общих средств для ведения победоносной борьбы, аскеты предлагают частные средства от особых искушений (ср. Мутц, «Аскетик», 2 изд., стр. 107 кв.).
Средства реализации христианского идеала
[ редактировать ]
Молитва , прежде всего, в более строгом смысле, есть средство достижения совершенства; особые богослужения, одобренные Церковью, и сакраментальные средства освящения имеют особое отношение к стремлению к совершенству (частая исповедь и причастие). Подвижник доказывает необходимость молитвы (2 Кор. 3:5) и учит способу молитвы с духовной пользой; оно оправдывает устные молитвы и учит искусству медитации по различным методам св. Петра Алькантарского , св. Игнатия и других святых, особенно «tres modi orandi» св. Игнатия. Важное место отведено исследованию совести , потому что аскетическая жизнь угасает или приумножается от ее пренебрежения или тщательного совершения; без этой регулярной практики не может быть и речи о глубоком очищении души и прогрессе в духовной жизни. Оно сосредотачивает прожектор внутреннего видения на каждом отдельном действии: все грехи, совершенные полностью сознательно или только наполовину добровольно, даже небрежность, которая, хотя и не является греховной, умаляет совершенство действия, все тщательно исследуются (peccata, offensiones , negligentioe; ср. «Exercitia Spiritia» Св. Игнатия, изд. П. Рутана, стр. 3). Аскетика различает двоякое испытание совести: одно общее (examengenerale), другое особенное (examenspeciale), давая в то же время указания, как можно сделать оба вида полезными посредством определенных практических и психологических пособий. Общий осмотр вспоминает все недостатки одного дня; частное, напротив, фокусируется на одном-единственном дефекте и отмечает его частоту или на одном достоинстве, чтобы увеличить число его действий.
Аскеты поощряют посещение Святых Даров ( visitatio Santissimi ), практику, предназначенную специально для питания и укрепления божественных добродетелей веры, надежды и милосердия. Оно также прививает почитание святых, чья добродетельная жизнь должна побуждать нас к подражанию. Понятно, что подражание не может означать точное копирование. Аскеты предлагают в качестве наиболее естественного метода подражания устранение или, по крайней мере, уменьшение контраста, существующего между нашей собственной жизнью и жизнью святых, совершенствование, насколько это возможно, человеческих добродетелей с должным уважением к личный характер и окружающие обстоятельства времени и места. С другой стороны, замечание о том, что некоторыми святыми следует больше восхищаться, чем подражать, не должно приводить к ошибке, когда человек позволяет себе отягощать свои произведения грузом человеческого комфорта и легкости и в конце концов смотрит с подозрением на каждый героический поступок, как будто это было чем-то, что превосходило собственные силы и не могло быть примирено с нынешними обстоятельствами. Такое подозрение было бы оправдано только в том случае, если бы героический поступок вообще не мог гармонировать с предшествующим развитием внутренней жизни. Пресвятая Богородица есть после Христа самый возвышенный идеал. Никто не получил благодати в такой полноте, никто не сотрудничал с благодатью так верно, как она, поэтому Церковь восхваляет ее как Зеркало Справедливости (speculum justitioe). Одной мысли о ее трансцендентной чистоте достаточно, чтобы отбросить соблазнительные чары греха и вселить удовольствие в чудесный блеск добродетели.

Самоотречение — второе средство, которому учат нас подвижники (ср. Мф. 16, 24-25). Без него борьба духа и плоти, противоположных друг другу (Римлянам 7:23; 1 Коринфянам 9:27; Галатам 5:17), не приведет к победе духа (Imitatio Christi, I, xxv). . Как далеко должно простираться самоотречение, ясно из фактического состояния человеческой природы после грехопадения Адама. Склонность ко греху господствует как над волей, так и над низшими аппетитами; не только интеллект, но также внешние и внутренние чувства подчиняются этой порочной склонности. Следовательно, самоотречение и самоконтроль должны распространяться на все эти способности. Аскеты сводят самоотречение к внешнему и внутреннему умерщвлению: внешнее умерщвление есть умерщвление чувственности и чувств; внутреннее умерщвление состоит в очищении способностей души (памяти, воображения, ума, воли) и овладении страстями. Однако термин «умерщвление» не следует понимать как означающий задержку «сильной, полноценной, здоровой» (Шелл) жизни; оно стремится к тому, чтобы чувственные страсти не взяли верх над волей. Именно через укрощение страстей путем умерщвления и самоотречения жизнь и энергия укрепляются и освобождаются от громоздких оков. Но хотя мастера аскетизма признают необходимость умерщвления и самоотречения, далекие от того, чтобы считать «преступным принимать на себя добровольные страдания» (Зиберг), они столь же далеки и от защиты так называемой «нечувственной» тенденции, которая, рассматривая тело и его жизнь как необходимое зло, предлагает предотвращать его пагубные последствия умышленным ослаблением или даже увечьем (ср. Шнайдер, «Göttliche Weltordnung u. Religionslose Sittlichkeit», Падерборн, 1900, стр. 537). С другой стороны, католики отвергают евангелие «здоровой чувственности», которое является лишь красиво звучащим названием, придуманным для того, чтобы прикрыть неограниченное похоть.

Особое внимание уделяется овладению страстями, ибо с ними прежде всего надо вести наиболее беспощадную моральную борьбу. Схоластическая философия перечисляет в качестве страстей: любовь, ненависть, желание, ужас, радость, печаль, надежду, отчаяние, смелость, страх, гнев. Отталкиваясь от христианской идеи о том, что страсти (passiones в понимании св. Фомы) присущи человеческой природе, аскеты утверждают, что они не являются ни болезнями, как утверждают стоики , реформаторы и Кант , ни тем не менее безобидными, как утверждали Гуманисты и Руссо, отрицавшие первородный грех. Напротив, оно настаивает на том, что сами по себе они безразличны, могут быть использованы как во благо, так и во зло и приобретают моральный характер только благодаря тому употреблению, которое им направит воля. Цель подвижников — указать пути и средства, которыми можно укротить и обуздать эти страсти, чтобы они, вместо того чтобы возбуждать волю ко греху, стали желанными союзниками для совершения добра. А так как страсти непомерны, поскольку они обращаются к запретным вещам или выходят за необходимые границы в том, что дозволено, то аскеты учат, как обезвредить их, отвращая или сдерживая их, или обращая их к более высоким целям.
Труд также подчинен стремлению к совершенству. Неутомимый труд противоречит человеческой развращенной природе, любящей покой и комфорт. Следовательно, упорядоченный, настойчивый и целенаправленный труд предполагает самоотречение. Вот почему Католическая Церковь всегда смотрела на труд, как физический, так и умственный, как на аскетическое средство, имеющее немалое значение (ср. Кассиан , "De instit. coenob.", X, 24; Правило св. Бенедикта , xlviii, li ; Василий, «Reg. fusius трактат.» ок. xxxvii, 1–3; «Reg. brevius тракт.», ок. lxxii, Contra Celsum , I, 28). Св. Василий даже считает, что благочестие и избегание труда несовместимы в христианском идеале жизни (ср. Маусбах, «Die Ethik des hl. Augustinus», 1909, с. 264).

Страдание также является неотъемлемой составной частью христианского идеала и, следовательно, принадлежит аскетам, но его реальная ценность проявляется только в свете веры, которая учит нас, что страдание уподобляет нас Христу, поскольку мы являемся членами мистического тела, которого Он является главой (1 Петра 2:21), что страдание — это канал благодати, которая исцеляет (санат), сохраняет (консерват) и испытывает (пробат). Наконец, подвижничество учит нас, как обратить страдания в русло небесной благодати.
Добродетели . подвергаются тщательному обсуждению Как доказано в догматическом богословии, душа наша принимает в оправдание сверхъестественных привычек не только три Божественные, но и нравственные добродетели (Трид., Сесс. VI, De justit., c. vi; Кат. Рим., стр. 2). , с. 2, н. 51). Эти сверхъестественные силы (virtutes infusoe) соединяются с природными способностями или приобретенными добродетелями (virtutes acguisitoe), образуя с ними один принцип действия. Задача подвижников — показать, как добродетели, учитывая упомянутые препятствия и средства, могут быть сведены к практике в реальной жизни христианина, чтобы любовь совершилась и образ Христов получил в нас совершенную форму. В соответствии с Запиской Льва XIII «Testem benevolentiae» от 22 января 1899 г., подвижники настаивают на том, что так называемые «пассивные» добродетели (кротость, смирение, послушание, терпение) никогда не должны отступаться в пользу «активных» добродетелей. (преданность долгу, научная деятельность, общественный и цивилизаторский труд), что было бы равносильно отрицанию того, что Христос является вечным образцом. Скорее, оба вида должны гармонично соединиться в жизни христианина. Истинное подражание Христу никогда не является тормозом и не притупляет инициативу в какой-либо области человеческой деятельности, но практика пассивных добродетелей является поддержкой и помощью истинной деятельности. Кроме того, нередко бывает, что пассивные добродетели обнаруживают более высокую степень нравственной энергии, чем активные. Сама «Краткая информация» ссылается на Матф., XXI, 29; Рим., VIII, 29; Гал., ст., 24; Фил., II, 8; Евр., XIII, 8 (ср. также Зан, LC, 166 кв.).
Применение средств в трех степенях христианского совершенства
[ редактировать ]
Подражание Христу — долг всех, кто стремится к совершенству. В самой природе этого образования по образу Христову лежит то, что процесс этот постепенный и должен следовать законам нравственной энергии; ибо нравственное совершенство — это конечная точка трудного пути, венец упорной битвы. Аскетизм делит стремящихся к совершенству на три группы: начинающих, продвинутых, совершенных; и соответственно устанавливает три стадии или пути христианского совершенствования: очистительный путь, просветляющий путь и объединяющий путь. Указанные выше средства применяются с большим или меньшим разнообразием в зависимости от стадии, которой достиг христианин.
В качестве очистительного средства, когда аппетиты и непомерные страсти еще обладают значительной силой, следует более широко практиковать умерщвление плоти и самоотречение. Ибо семена духовной жизни не прорастут, если предварительно не выполоть плевелы и волчцы. Просветляющим образом, когда туман страстей в значительной степени рассеялся, следует настаивать на медитации и практике добродетелей в подражании Христу. На последнем этапе, объединяющем пути, душа должна утвердиться и усовершенствоваться в соответствии с волей Божией («И живу теперь не я, но живет во мне Христос»: Галатам 2:20).
Не следует ошибочно принимать эти три стадии за совершенно отдельные части стремления к добродетели и совершенству. Даже на второй и третьей стадиях иногда происходит ожесточенная борьба, тогда как радость соединения с Богом может иногда дароваться на начальной стадии как стимул для дальнейшего продвижения (ср. Мутц, «Азетик», 2-е изд., 94 кв.).
Отношение аскетики к нравственному богословию и мистицизму
[ редактировать ]
Все эти дисциплины касаются христианской жизни и ее последнего конца в мире ином; но они различаются, хотя и не полностью, в способах лечения. Аскетическое богословие, отделенное от морального богословия и мистицизма , имеет своим предметом стремление к христианскому совершенству ; оно показывает, как можно достичь христианского совершенства, усердно упражняя и воспитывая волю, используя указанные средства как для того, чтобы избежать опасностей и соблазнов греха, так и для более интенсивного проявления добродетели. Моральное богословие — это учение об обязанностях, и при обсуждении добродетелей довольствуется научным изложением.
В мистике речь идет, по существу, о «соединении с Богом» и о необыкновенной, так называемой мистической молитве. Хотя и такие явления, случайные для мистицизма, как экстаз, видение, откровение, попадают в его сферу, однако они ни в коем случае не существенны для мистической жизни (ср. Зан, «Einführung in die christl. Mystik», Падерборн, 1908). Хотя мистицизм включает в себя также и аскетические дела, такие как подвиг очищения, устную молитву и т. д., это делается только потому, что эти упражнения рассматриваются как подготовительные к мистической жизни и их нельзя отбрасывать даже на высшей ее стадии. Тем не менее, мистическая жизнь не есть только высшая степень аскетической жизни, но существенно отличается от нее, поскольку мистическая жизнь есть особая благодать, даруемая христианину без каких-либо непосредственных заслуг с его стороны.
Историческое развитие
[ редактировать ]Библия
[ редактировать ]Изобилие практических указаний для жизни христианского совершенства. Сам Христос нарисовал ее очертания как в отношении ее отрицательных, так и положительных требований. Его подражание – высший закон (Иоанна 8:12; 12:26), благотворительность – первая заповедь (Матфея 22:36-38; Иоанна 15:17); правильное намерение придает ценность внешним делам (Матфея 5-7), а самоотречение и ношение креста являются условиями Его ученичества (Матфея 10:38; 16:24; Марка 8:34; Луки 9: 23; 14:27).

Как Своим примером (Матфея 4:2), так и Своими увещеваниями (Матфея 17:20; Марка 9:28) Христос рекомендовал поститься . Он прививал трезвость, бдительность и молитву (Матфея 24:42; 25:13; 26:41; Марка 13:37; 14:37). Он указывал на бедность как на средство достижения Царства Небесного (Матфея 6:19; 13:22; Луки 6:20; 8:14; 12:33 и т. д.) и советовал богатой молодежи оставить все и следовать Его (Матфея 19:21). То, что это был совет, а не строгое повеление, данное ввиду особой привязанности юноши к вещам этого мира, видно из самого факта, что Учитель дважды сказал: «Соблюдайте заповеди», и что он рекомендовал отказ от всех земных благ только на возобновленном поиске средств, ведущих к совершенству (ср. Лутц, lc, против протестантов Т. Зана, Берна, Вейса, Лемме и др.). Целибат ради Бога был восхвален Христом как достойный особой небесной награды (Мф. 19:12). Однако брак не осуждается, но слова: «Не все люди принимают это слово, но те, кому оно дано» подразумевают, что это обычное состояние, а безбрачие ради Бога является просто советом. Косвенно Христос также восхвалял добровольное послушание как средство достижения самого тесного союза с Богом (Матфея 18:4; 20:22, 25).
То, что Христос изложил в своем учении, Апостолы продолжали развивать. В частности, св. Павел Тарсийский четко выделяет два элемента христианского аскетизма: умерщвление непомерных желаний как отрицательный элемент (Римлянам 6:8, 13; 2 Коринфянам 4:16; Галатам 5:24; Колоссянам 3: 5), единение с Богом во всех мыслях, словах и делах (1 Коринфянам 10:31; Галатам 6:14; Колоссянам 3:3-17) и деятельная любовь к Богу и некогда ближнему (Римлянам 8:35; 1 Коринфянам 13). :3) как положительный элемент.
Отцы и Учителя Церкви
[ редактировать ]Опираясь на Библию, Отцы и Учителя Церкви более последовательно и подробно объясняли отдельные особенности христианской жизни. Апостольские отцы называли любовь к Богу и человеку солнцем христианской жизни, которое, оживляя своими жизненными лучами все добродетели, внушает презрение к миру, благодеяние, непорочную чистоту и самопожертвование. « Дидахе », призванная служить руководством для оглашенных , так описывает образ жизни: «Во-первых, люби Бога, сотворившего тебя; во-вторых, люби ближнего твоего, как самого себя; чего бы ты ни пожелал, чтобы он не следует поступать с тобой, не делай и с другими».
Следуя, вероятно, «Дидахе», « Послание Варнавы », написанное в конце II века, представляет христианскую жизнь под видом двух путей: пути света и пути тьмы. Два послания, якобы вышедшие из-под пера св. Климента , но написанные, вероятно, в III веке, превозносят жизнь девства, если она основана на любви Божией и сопровождается соответствующими делами, как небесную, божественную и ангельскую. Св. Поликарп говорит, что в письмах св. Игнатия Антиохийского содержатся «вера и терпение и всякое назидание в Господе»; «Пастырь» Ермы в двенадцати заповедях внушает простоту, правдивость, целомудрие, кротость, терпение, воздержание, уверенность в Боге и постоянную борьбу со похотью.
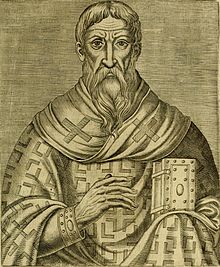
С III века работы по христианскому аскетизму стали носить более научный характер. В сочинениях Климента Александрийского и Григория Великого («Мораль», XXXIII, ок. xxvii; ср. также Кассиан, «Сборник», IX, XV) обнаруживаются следы тройственной степени, которую впоследствии систематически развивал Дионисий Ареопагит. . В своих «Строматах» Климент излагает всю красоту и величие «истинной философии». Примечательно, что этот автор очерчивает, даже в деталях, то, что сейчас известно как этическая культура, и пытается гармонизировать ее с примером, данным Христом. Жизнь христианина во всем должна основываться на воздержании. Следуя этой идее, он в казуистической форме рассуждает о еде и питье, одежде и любви к нарядам, телесных упражнениях и социальном поведении.
С IV века в произведениях о христианской жизни просматривается двоякая линия мысли: одна умозрительная, подчеркивающая соединение души с Богом, Абсолютной Истиной и Добром; другой практический, направленный главным образом на обучение применению христианских добродетелей. Спекулятивный элемент преобладал в мистической школе, обязанной своим систематическим развитием Псевдо-Дионисию и достигшей наивысшего совершенства в 14 в. Практический элемент был подчеркнут в аскетической школе, главным представителем которой был святой Августин , по стопам которого следовали Григорий Великий и Бернар Клервоский .

Пожалуй, достаточно подробно остановиться на основных моментах, на которых останавливались в своих наставлениях писатели до средневеково- схоластического периода. О молитве мы имеем сочинения Макария Египтянина (ум. 385) и Тертуллиана (ум. после 220), которые дополнили свой трактат о молитве вообще объяснением Молитвы Господней . Киприан Карфагенский (ум. 258) написал «De oratione dominica», а св. Златоуст (ум. 407). Покаяние и дух покаяния рассматривались Тертуллианом (De poenitentia), Иоанном Златоустом («De compunctione cordis», «De poenitentia») и Кириллом Иерусалимским (ум. 386) в его втором катехизическом наставлении. То, что жизнь христианина — это война, подробно показано в «De Agone Christiano» и «Исповеди» Св. Августина (ум. 430).
Целомудрию и девству трактовал Мефодий Олимпийский (ум. 311) в своем «Конвивиуме», в котором десять дев, рассуждая о девстве, демонстрируют нравственное превосходство христианства над этическими положениями языческой философии. Эту же тему обсуждают следующие отцы: Киприан (ум. 258); Григорий Нисский (ум. 394) в его «О девственности»; Амвросий (ум. 397), неутомимый восхвалитель и поборник девственной жизни; Иероним в своих «Adversus Helvidium de Virginitate» и «Ad Eustachium»; Златоуст (ум. 407) в своем «De Virginitate», который, хотя и превозносит девственность как небесную жизнь, тем не менее рекомендует ее только как совет; Августин в своих произведениях «De Containeria», «De Virginitate», «De bono viduitatis».
О терпении мы имеем сочинения Киприана, Августина и «О терпитании» Тертуллиана, в которых он говорит об этой добродетели так, как больной мог бы говорить о здоровье, чтобы утешить себя. В «De jejunio et eleemosyna» Златоуста говорится о посте. Милостыня и добрые дела поощряются в «De opere et eleemosynis» Киприана и в «De fide et operibus» Августина. Ценность труда объясняется в «De opere monachorum» Св. Августина.

Нет недостатка и в трактатах о различных состояниях жизни. Так, в «De bono conjugali» св. Августина говорится о браке; его «De bono viduitatis» вдовства. Частой темой было священство. Григорий Назианзин в своем «De fuga» говорит о достоинстве и ответственности священства; «De sacerdotio» Златоуста с превосходным совершенством превозносит величие этого состояния; Св. Амвросий в своих «De officiis», говоря о четырех главных добродетелях, увещевает клириков, что их жизнь должна быть прославленным примером; В «Epistola ad Nepotianum» св. Иеронима обсуждаются опасности, которым подвергаются священники; «Regula Pastoralis» Григория Великого прививает пастырю благоразумие, необходимое в его обращении с различными классами людей. Первостепенное значение для монашеской жизни имел труд Кассиана «De institutis coenobiorum».
Но стандартным произведением с 8 по 13 век было « Правило святого Бенедикта» , нашедшее многочисленных комментаторов. О святом или, скорее, о его Уставе св. Бернард говорит: «lpse dux noster, ipse magister et legifer noster est» (Серм. в Nat. S. Bened., н. 2). Иллюстрацией практики христианских добродетелей в целом были «Expositio in beatum Job» папы Григория Великого и «Collationes Patrum» Кассиана , в которых различные элементы христианского совершенства обсуждались в форме диалогов.
Средневековый-схоластический период
[ редактировать ]Переходный период до XII века не представляет собой особенно примечательного прогресса в аскетической литературе. Стремлению собрать и сохранить учение отцов мы обязаны «De virtutibus et vitiis» Алкуина . Но когда в XII веке спекулятивное богословие праздновало свои триумфы, мистическое и аскетическое богословие также проявляло здоровую активность.

Результаты первого не могли не пойти на пользу второму, поставив христианскую мораль на научную основу и придав самому аскетическому богословию научную форму. Пионерами в этой области были святой Бернар (ум. 1156), Гуго Сен-Викторский и Ричард Сен-Викторский . Среди писателей-аскетов видное место занимает и святой Бернар, величайший богослов-мистик XII века, так что Гарнак называет «религиозным гением» XII века. Основная идея его произведений, особенно ярко выраженная в трактате «De gratia et libero artrio», состоит в том, что жизнь христианина должна быть копией жизни Иисуса. Подобно Клименту Александрийскому, он излагает заповеди об регулировании жизненных потребностей, таких как еда и одежда, а также о вселении в сердце человека любви Божией, которая освятила бы все вещи («Апология», «De præcepto et dispensatione»). . Много ступенек, по которым любовь восходит, пока не достигнет своего совершенства в любви ради Бога. Среди его аскетических сочинений: «Liber de diligendo Deo», «Tractatus de gradibus humilitatis et superbiæ», «Tractatus de gradibus humilitatis et superbiæ». О нравах и долге архиереев », «Слово о обращении в клирики», «Книга о размышлении».
Частые намеки на СС. Августин и Григорий Великий настолько разбросаны по страницам Гуго Святого Виктора (ум. 1141), что современники заслужили звание второго Августина. Он, несомненно, был первым, кто придал аскетическому богословию более или менее определенный научный характер. Постоянно повторяющаяся тема его произведений – любовь. Но прежде всего в своих сочинениях он стремился обнажить психологическую подоплеку мистического и аскетического богословия. Заслуживают внимания его произведения: «De vanitate mundi», «De laude caritatis», «De mode orandi», «De Meditete».
Его ученик, Ричард Сен-Викторский (ум. 1173), хотя и более изобретателен и систематичен, все же менее заинтересован в практической полезности, за исключением его работы «De exterminatione mali et Promotione boni».
Великие богословы XIII века, прославившиеся своими схоластическими «Суммами» не менее, чем своими аскетическими и мистическими сочинениями, довели аскетическое учение до совершенства и придали ему определенную форму, которую оно сохранило в качестве эталона для всех будущих времен. Ни одна другая эпоха не дает столь убедительного доказательства того, что истинная наука и истинное благочестие скорее помогают, чем мешают друг другу.
Альберт Великий , или Альберт Великий, прославленный учитель Фомы Аквинского , который первым соединил аристотелевскую философию с теологией и сделал философию служанкой теологии, был в то же время автором превосходных сочинений по аскетике и мистицизму, например , «De adhærendo Deo», зрелый плод его мистического гения, и «Paradisus animæ», который был задуман в более практических целях. Св. Фома в аскетическом труде «О совершенстве жизни спиритуалис» настолько ясно объясняет сущность христианского совершенства, что линия его рассуждения может даже в наши дни служить образцом. Другие его произведения также содержат богатый материал, ценный как для аскетов, так и для мистицизма.

Серафический доктор , святой Бонавентура, по словам Папы Льва XIII , «трактует мистическую теологию настолько совершенно, что по единодушному мнению наиболее опытных богословов он считается князем мистических богословов». Из его подлинных произведений заслуживают упоминания следующие: «De perfectione evangelica», «Collationes de septem donis Spiritus Santi», «Incendium amoris», «Soliloquium», «Lignum vitæ», «De præparatione ad Missam», «Apologia pauperum». Из-под пера Давида Аугсбургского , современника этих великих мастеров, вышло аскетическое наставление для послушников в его книге «De externalis et Interioris hominis Compositione». Он ведет читателя тремя известными путями: очистительным, просветляющим и объединяющим, стремясь сделать читателя духовным человеком. Строго дисциплинируя способности души и подчиняя плоть духу, человек должен восстановить первоначальный порядок, чтобы он мог не только делать добро, но и делать это с легкостью. Остаётся упомянуть «Сумму жизней и виртутибусов» Перальд (ок. 1270 г.).
XIV век во всем характеризуется мистическими тенденциями. Среди произведений, созданных в этот период, особого упоминания заслуживает «Брошюра вечной мудрости» Генри Сузо ввиду ее высокой практической ценности.
Выдающимися в пятнадцатом веке были Герсон , Дионисий Картезианин и автор « Подражания Христу» . Отказавшись от идеалов писателей-мистиков четырнадцатого века, Герсон снова присоединился к великим писателям-схоластам, избежав таким образом капризов, которые стали тревожно частыми среди мистиков. Его «Соображения о мистической теологии» показывают, что он принадлежит к практической школе аскетизма. Дионисий Картезианец почитается как высокодаренный учитель духовной жизни. И мистицизм в собственном смысле слова, и практический аскетизм обязаны его перу ценными произведениями. К последней категории относятся: «De remediis tenationum», «De via purgativa», «De oratione», «De gaudio Spiriti et Pace Interna», «De quatuor novissimis».

« Imitatio Christi », появившееся в середине XV века, заслуживает особого внимания ввиду своего длительного влияния. «Это классика по своему аскетическому помазанию и совершенная по своему художественному стилю» (Хамм, «Die Schönheit der kath. Moral», Мюнхен-Гладбах, 1911, стр. 74). В четырех книгах рассказывается о внутренней духовной жизни по подражанию Иисусу Христу. В ней изображена борьба, которую должен вести человек со своими непомерными страстями и порочными наклонностями, потворство которым запятнает его совесть и лишает его благодати Божией: «Суета сует, и все суета, кроме любви к Богу и служения Ему одному» (Vanitas vanitatum et omnia vanitas præter amare Deum et illi soli servire: I, i). Он советует унижение и самоотречение как наиболее эффективное оружие в этой борьбе. Она учит человека утверждать Царство Божие в своей душе практикой добродетелей по примеру Иисуса Христа. Наконец, оно приводит его к союзу со Христом, пробуждая любовь к Нему, а также указывая на слабость всех созданий: «Необходимо оставить любимое ради любимого, потому что Иисус желает, чтобы его любили превыше всего» (Опортет dilectum propter dilectum relinquere, quia Иисус vult Solus super omnia amari: II, xvii). Мысли «Подражания» выражены в эпиграммах настолько простых, что они понятны каждому. Хотя в книге и видно, что автор был хорошо сведущ не только в схоластической философии и богословии, но и в тайнах мистической жизни, тем не менее этот факт никогда не бросается в глаза читателю и не затемняет смысла содержания. Ряд цитат великих врачей Августина, Бернара, Бонавентуры и Фомы, Аристотеля, Овидия и Сенеки не портят впечатления, что все произведение представляет собой спонтанный порыв ярко пылающей души. Часто говорили, что учение «Подражания» «не от мира сего» и мало ценит науку, но нужно принять во внимание особые обстоятельства того времени: схоластика вступила в период упадка и затерялась в сложные тонкости; мистицизм сбился с пути; все классы были в той или иной степени заражены духом распущенности; подобные условия являются ключом к интерпретации таких фраз, как следующие: «Я предпочитаю чувствовать раскаяние, чем знать, как его определить» (Opto magis sendire compunctionem quam scire ejus Definitionem) или «Это высшая мудрость: через презрение к миру» стремиться к Царству Небесному» (Ista est summa sapientia: per contemptum mundi bidere ad regna coelestia).
Новое время
[ редактировать ]
В XVI веке святая Тереза и святой Игнатий Лойола выделяются наиболее заметно благодаря ощущаемому влиянию, которое они оказали на религию своих современников, и влияние, которое все еще действует через их сочинения. Сочинения святой Терезы вызывают наше восхищение простотой, ясностью и точностью ее суждений. Из ее писем видно, что она враг всего, что отдает эксцентричностью или необычностью, притворным благочестием или нескромным рвением. Одно из главных ее сочинений, «Путь к совершенству», хоть и написано преимущественно для монахинь, но содержит и уместные наставления для живущих в миру. Обучая пути созерцания, она, тем не менее, настаивает на том, что не все призваны к этому и что большая безопасность достигается в практике смирения, умерщвления плоти и других добродетелей. Ее шедевр – «Замок души», в котором она излагает свою теорию мистики под метафорой «многокамерного замка». Душа, сияющая красотой бриллианта или хрусталя, — это замок; различные палаты — это различные ступени, через которые должна пройти душа, прежде чем она сможет жить в совершенном союзе с Богом. По всему произведению разбросано множество намеков на неоценимую ценность аскетизма, применяемого в повседневной жизни. Этот факт, несомненно, обусловлен хорошо обоснованным убеждением святого, что даже в чрезвычайных состояниях нельзя совсем отказываться от обычных средств, чтобы можно было предохраняться от иллюзий (ср.: Дж. Зан, «Введение в мистику», с. 213).

В своем «Exercitia Spiritia» св. Игнатий Лойола оставил потомкам не только великий литературный памятник науки о душе, но и метод, не имеющий себе равных по своей практической эффективности укрепления силы воли. Буклет выходил в бесчисленных изданиях и переработках и, «несмотря на свою скромную внешность, на самом деле представляет собой законченную систему аскетизма» (Мешлер). Четыре недели Упражнений знакомят практикующего с тремя ступенями духовной жизни. Первая неделя посвящена очищению души от греха и от чрезмерной привязанности к твари. Вторая и третья недели ведут практикующего по просветляющему пути. Перед его глазами рисуется портрет Христа, милейшего из всех людей, чтобы он мог созерцать в человечестве отражение Божественного света и высший образец всех добродетелей. Размышления четвертой недели, предметом которых является воскресение и т. д., приводят к соединению с Богом и учат душу радоваться славе Господней. Правда, правил и предписаний много, последовательность наиболее логична, расположение медитаций соответствует законам психологии; однако эти упражнения не насилуют свободную волю, а предназначены для укрепления способностей души. Они не делают, как часто утверждалось, практикующего бессильным инструментом в руках исповедника, и не являются они мистическим полетом на небеса, совершаемым посредством принуждения, которое предполагает быстрое продвижение к совершенству посредством механического процесса ( Цёклер, «Die Tugendlehre des Christentums», Гютерсло, 1904, стр. 335). Их выраженный интеллектуализм, против которого так часто возражают, никоим образом не является помехой мистицизму (Мешлер, «Jesuitenaszese u. deutsche Mystik» в «Stimmen aus Maria-Laach», 1912). Напротив, они, устраняя препятствия, делают нравственную волю человека поистине свободной, а, очищая сердце и приучая ум к медитативной молитве, представляют собой превосходную подготовку к мистической жизни.

Людовик Гранадский , ОП (умер в 1588 г.), также относится к этому периоду. Его произведение «La guia de pecadores» можно назвать книгой, полной утешения для заблудших. Его «El Memorial de la vida cristiana» содержит наставления, которые берут душу с самого начала и ведут ее к высшему совершенству. Людовик Блуа (Блозиус), ОСБ (ум. 1566), по духу близок святому Бернару. Его «Monile Spiritale» — самое известное из его многочисленных произведений. Фома Иисусский (умер в 1582 г.) написал «Страсти Христовы» и «De oratione dominica».
В 17 веке появилось большое количество писателей-аскетов. Среди них святой Франциск Сальский особенно выделяется . По мнению Линземанна, публикация его «Филофеи» была событием исторического значения. Сделать благочестие привлекательным и приспособить его ко всем сословиям, живущим ли в придворных кругах, в миру или в монастыре, — вот его цель, и в этом он преуспел. Обладая мягким и милым характером, он никогда не упускал из виду привычки и особые обстоятельства человека. Хотя он был непоколебим в своих аскетических принципах, он все же обладал замечательной способностью адаптировать их без принуждения и жесткости. В практике умерщвления он рекомендует умеренность и приспособление к своему состоянию жизни и личным обстоятельствам. Любовь к Богу и человеку: ее он считает движущей силой всех действий. Дух святого Франциска пронизывает всю современную аскезу, и даже сегодня его «Филофея» является одной из самых читаемых книг по аскетизму. «Феотим», другое его произведение, в первых шести главах посвящено любви Божией, остальные посвящены мистической молитве. Его письма тоже очень поучительны. Обращает на себя внимание новое издание его сочинений (Эвр, Анси, 1891 кв.). «Духовное боевое искусство» Скуполи (ум. 1610) получило очень широкое распространение и настоятельно рекомендовалось Франциском Сальским.
Дальнейшая католическая библиография
[ редактировать ]
К этому же периоду относятся следующие авторы и произведения.
- Беллармин, С.Дж. (ум. 1621): «Стон голубя»; «О восхождении ума к Богу»; «Об искусстве умирать хорошо».
- Альфонс Родригес, SJ (ум. 1616): «Exercicio de perfección y virtudes cristianas» (3 тома, Севилья, 1609 г.), которое часто переиздавалось и переводилось почти на все языки.
- Иоанн Иисуса-Марии, ОКР (ум. 1615): «Teologia Mistica» (Неаполь, 1607 г.), высоко оцененный Беллармином и Франциском де Сальсом.
- Альварес де Пас, SJ (ум. 1620): «О духовной жизни и ее совершенстве» (1608); «Об истреблении зла и поощрении добра» (1613 г.); «De inquisitione pacis» (1617 г.), которая часто переиздавалась.
- Антуан де Годье , SJ (ум. 1620): «О совершенствовании духовной жизни» (1619; новое изд., 3 т., Турин, 1903-4).
- Ла Пуэнте, SJ (ум. 1624): «Guia espiritual» (Вальядолид, 1609), содержащая, по его собственному утверждению, краткое описание духовной жизни, как активной, так и созерцательной (молитва, медитация, испытания, умерщвление плоти, практика достоинство); «De la Perfección del Cristiano en todos sus estados» (1612 г.). Оба произведения всегда пользовались большим уважением среди всех подвижников и были переведены на многие языки.
- Лессий , SJ (ум. 1623): «De perfectionibus moribus divinis», работа, отличающаяся как своим научным, так и аскетическим духом.
- Николай Ланчициус , SJ (ум. 1638), учитель духовной жизни, чья святая личность отражена в его сочинениях (новое изд., Краков, 1889 кв.): "De externale corporis complexe"; «О четырех путях достижения совершенства»; «О овладении человеческими страстями»: «О средствах к добродетели»; «О причинах и средствах лечения в речи». Очень ценится его книга размышлений: «О благочестивых к Богу и небесных привязанностях»; он был переведен на несколько языков.
- Шоррер, С.Дж.: «Synopsis theol. ascet». (Диллинген, 1662 г.; редкое издание).
- Майкл Ваддинг (священник) в роли Мигеля Годинеса, SJ: «Práctica de la teologia mystica» (La Puebla de los Angeles, 1681 г.), латинское издание которой у нас есть вместе с комментарием де ла Регеры, SJ (Рим, 1740 г.) .
- Сурин, С. Дж. (ум. 1665), написал свой важный «Духовный катехизис» в то время, когда он подвергался внутренним испытаниям (ср. Зан, «Мистика», стр. 441). Книга выходила во многих изданиях и переводах, но была помещена в Индекс. Издание о. Феллон, SJ (1730 г.) и Мари Доминик Буи (Париж, 1882 г.), вероятно, не подпадают под этот запрет, поскольку в них ошибки исправлены. После смерти Сурина появились: «Les Fondements de la vie Spirituelle» (Париж, 1667); «Lettres Spirituelles» (там же, 1695); «Диалоги духовных» (там же, 1704).
- Гаспар Дружбицкий , SJ (ум. 1662), является автором значительного количества аскетических сочинений как на польском, так и на латыни, многие из которых были переведены на другие языки. Существует два полных издания его сочинений: одно опубликовано в Ингольштадте (1732 г.) в двух листах, другое - в Калише и Позене (1681–91). Среди его многочисленных работ: «Lapis lydius boni Spiritus»; «Соображения об укреплении истинной виртутис»; «De sublimitate Perfectionis»; «De brvissima ad perfectionem via»; «Вота религиозная».
- «Mystica theologia Divi Thomæ» Фомы из Вальгорнера , OP (ум. 1665), опубликованная в Барселоне (1662 и 1672) и Турине (1890), почти исключительно состоит из цитат св. Фомы и представляет собой богатую книгу. хранилище аскетического материала.
- Из-под пера кардинала Бона О. Сист. (ум. 1674), у нас есть: «Principia et document vitæ christianæ» (Рим, 1673) и «Manuductio ad coelum» (Рим, 1672 и 1678), оба произведения, замечательные своей простотой и практической полезностью, часто отредактировано; все еще ценная «De Satricio Missæ»; «Де дискреционный дух»; «Часослов аскетикум». Полные издания его сочинений выходили в Антверпене, Турине, Венеции.
- Моротий, О. Cist., в своем «Cursus vitæ Spiritalis» (Рим, 1674; новое издание, Ратисбон, 1891) внимательно следует примеру св. Фомы.
- «Summa theologiæ mysticæ» (новое изд., 3 т., Фрайбург, 1874 г.) — лучший и наиболее читаемый труд Филиппа Пресвятой Троицы (ум. 1671), философа среди писателей-мистиков. Он писал в духе св. Фомы, следуя определенным научным принципам и показывая их практическое применение в духовной жизни.
- Антоний Святого Духа, ОКР (ум. 1674), был учеником только что названного автора. В его «Directorium mysticum» (новое изд., Париж, 1904) господствует дух. его учителя, была написана для обучения его учеников. Он также является автором следующих сочинений: «Seminarium virtutum» (3-е изд., Аугсбург и Вюрцбург, 1750 г.), «Irriguum virtutum» (Вюрцбург, 1723 г.), «Tractatus de clericorum ac præcipue sacerdotum et Pastorum dignitate» и др. (Вюрцбург, 1676 г.).
В течение 18 в. был опубликован ряд ценных работ по аскетизму и мистицизму. Ноймайеру С. Дж. (ум. 1765) мы обязаны «Идеей теол. аскета», полным, научно оформленным изложением. Рогаччи С. Дж. (ум. 1719) написал «Del uno necessario», наставление о любви к Богу, которое занимает высокое место в аскетической литературе и было переведено на несколько языков. Джованни Баттисты Скарамелли » В «Direttorio ascetico аскетизм рассматривается отдельно от мистицизма. Трактат о добродетелях содержится у Диркинка С. Дж. «Semita Perfectionis» (новое издание, Падерборн, 1890). В широком смысле выстроено «Trinum Perfectum» (3-е изд., Аугсбург, 1728 г.) Михаила Св. Екатерины. Катценбергер, OFM, написал «Scientia salutis» (новое издание, Падерборн, 1901). «Institutiones theol. mysticæ» Шрама (2 тома) сочетает в себе аскетизм с мистицизмом, хотя автор лучше всего проявляет себя в аскетических частях. Св. Альфонс Лигуори (ум. 1787), по праву называемый «Апостольским человеком», опубликовал большое количество аскетических сочинений, полных небесного помазания и умилительного благочестия. Наиболее известные и важные из них: «Pratica di amar Gesù Cristo» (1768), «Visita al SS. Sacramento», пожалуй, наиболее читаемые из всех его аскетических произведений: «La vera sposa di Gesù Cristo» ( 1760), верный путеводитель к совершенству для бесчисленных душ.

Полные трактаты об аскетизме, опубликованные в XIX и XX веках, включают: Grundkötter, «Anleitung zur christl. Vollkommenheit» (Ratisbon, 1896). Лейк, К. СС. Р., "Schule der christl. Vollkommenheit" (Ратисбон, 1886), вдохновленная сочинениями св. Альфонса Лигуори. Вайс, О. П., «Философия христла. Vollkommenheit» (т. V его «Апологии»; Фрайбург, 1898 г.). Автор необычайно начитан, и его представление о духовной жизни необычайно глубоко. Рибе, «Христианская аскетика» (Париж, 1888). Тиссо, «Интерьерная жизнь». Содро, «Les degrés de la vie Spirituelle» (Анже, 1896 и 1897), произведение, полное помазания. Другие его произведения, «Чрезвычайные дела о духовной жизни» (1908) и «Жизнь в союзе с Богом» (1909), относятся к собственно мистицизму. Пулен, С.Ж., «La grâce d'raison», хотя и носит мистический характер, тем не менее описывает обычный метод молитвы. Содро и Пулен надежны во всем, а их произведения входят в число лучших произведений в этой отрасли. Руссе, ОП, «Directorium asceticum» (Фрайбург, 1893). Мейнард, ОП, «Трактат о внутренней жизни» (Париж, 1899 г.), по мотивам Св. Фомы. Мейер, С. Дж., «Первые уроки науки о святых» (2-е изд., Сент-Луис, 1903 г.), переведено на несколько языков. Фрэнсис X. Мутц, «Die christliche Aszetik» (2-е изд., Падерборн, 1909 г.). Йозеф Зан, «Einführung in die christliche Mystik» (Падерборн, 1908), важный также для аскетизма. Бертье, «О христианском совершенстве и религиозном совершенстве после С. Томаса и С. Франсуа де Саля» (2 тома, Париж, 1901). Дивайн А. «Руководство по аскетическому богословию» (Лондон). Райан, «Основы христианского совершенства» (Лондон). Бьюкенен, «Совершенная любовь к Богу» (Лондон).
Исчерпывающий список католических писателей-аскетов дан в «Минь». [6]
Некатолические авторы: Отто Цёклер, «Учение о добродетели в христианстве, представленное исторически» (Гютерсло, 1904). В. Герман, «Общение христианина с Богом» (6-е изд., Штутгарт, 1908 г.) и «Нравственные наставления Иисуса» (Геттинген, 1907 г.). Келер, «Общение со Христом в его значении для собственной жизни» (Лейпциг, 1904). Пибоди «Иисус Христос и христианский характер». А. Ритчль, «Христианское совершенство» (Геттинген, 1902). Шелдон, «По его стопам: что бы сделал Иисус?», широко читаемая в Англии.
Восточно-православный
[ редактировать ][ оригинальное исследование? ]
Восточные православные разделяют апостольскую веру и сакраментальную жизнь, присущие католической вере, и имеют практически идентичное понимание природы и цели христианской жизни, используя разную терминологию. [ нужна ссылка ] Сторонники восточно-православной традиции называют практику веры практикой , которая включает в себя молитву, богослужение и пост. Форма молитвы, соответствующая, возможно, способам просветления и объединения, называется исихазмом . Общее продвижение к единению с Богом называется обожением . Понимание христианской жизни, соответствующее святоотеческим и апостольским учениям и предполагающее начало очищения, называется фронемой . [ нужна ссылка ] Православные источники также относятся к аскетическому богословию в значении, соответствующем приведенному выше. [ нужна ссылка ]
протестант
[ редактировать ]Многие протестанты не разделяют сакраментального понимания, которое характеризует католическую и православную веру, но используют термин аскетическое богословие в некоторых контекстах. Без таинства исповеди очистительный путь более личный, а без веры в то, что Бог буквально присутствует в Евхаристии, объединяющий путь также более личный и эфирный. Протестантская теология союза с Богом имеет тенденцию быть персоналистической . Как и в случае с Евхаристией, существует множество протестантских точек зрения на то, как следовать за Христом. Отчасти это связано с тем, что не существует единого центра протестантской мысли.
Полезным автором темы аскезы с протестантской точки зрения является Юджин Петерсон , особенно в его работе «Под непредсказуемым растением» . [7] Он ссылается на многих других протестантских писателей, в том числе на Мартина Торнтона . Приходское богословие остатка Торнтона является англиканским выражением римско-католического правила веры. [8]
ислам
[ редактировать ]Не существует обширных доказательств того, что ислам придерживается аскетической теологии, но исламские учения побуждают своих приверженцев точно подражать Мухаммеду , чтобы достичь духовного совершенства. Более того, в руководствах по исламской этике и мистицизму существует определенный вид аскетизма, известный в исламской терминологии как зухд .
См. также
[ редактировать ]- Аскетизм
- Христианское монашество
- Восточно-христианское монашество
- Аскетические проповеди Исаака Сирина.
Примечания
[ редактировать ]- ^ Генри Джордж Лидделл, Роберт Скотт, Промежуточный греко-английский лексикон
- ^ ВОЗРАСТ
- ^ например, Мф 5:48
- ^ 6:58
- ^ Адольф Д. Танкери (преподобный) (1930). Духовная жизнь. Трактат по духовному и мистическому богословию (2-е изд.). Турне (Бельгия): Общество Святого Иоанна Богослова , Desclée & Co (принтеры для Святого Престола и Священного Конгрегации обрядов). стр. iv, vii. Архивировано из оригинала 16 декабря 2018 года . Получено 17 декабря 2018 г. - через archive.org . , с Майкла одобрения Дж. Керли , римско-католического архиепископа Балтимора.
- ^ «Богословская энциклика», XXVI; «Дикт об аскетизме», II, 1467 г.
- ^ Юджин Петерсон , Под непредсказуемым растением , Eerdmans, 1992, стр. 73-115.
- ^ « Принципы теологии Мартина Торнтона» | Akenside Press» . Проверено 24 июня 2017 г.
Ссылки
[ редактировать ]- Герберманн, Чарльз, изд. (1913). . Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
- Герберманн, Чарльз, изд. (1913). . Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
- Герберманн, Чарльз, изд. (1913). . Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
- Герберманн, Чарльз, изд. (1913). . Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
- Герберманн, Чарльз, изд. (1913). . Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
- Герберманн, Чарльз, изд. (1913). . Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
- Герберманн, Чарльз, изд. (1913). . Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
- Аскетическое богословие из католического словаря 1902 года.